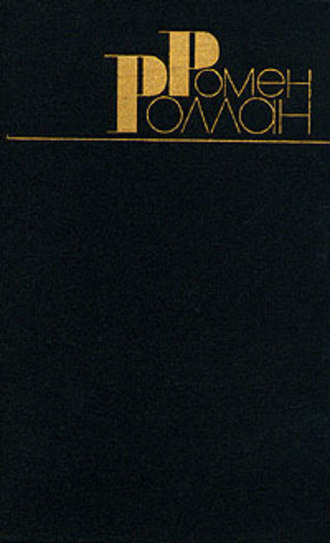
Ромен Роллан
Очарованная душа
Аннета спокойна. Она одна из всех окружающих не потеряла равновесия – напротив, вошла в «нормальную» колею. Страшно выговорить: ей дышится легко. Она походит на женщин – своих праматерей – времен великих нашествий. Когда воины неприятельских орд ломились в ограды их временных поселений, они взбирались на повозки, чтобы обороняться вместе со всеми. На просторах равнин их нагие груди дышали глубже. Сердца, бившиеся спокойно и сильно, вбирали в себя воздух войны и брызги от вала нахлынувших полчищ; они обнимали взглядом пустые поля, изборожденные колесами их телег, темное полукружие леса, горизонт, извилистую линию холмов и купол вольного неба, которое ждет освобожденные души.
Аннета со своей повозки озирает горизонт и узнает:
«Да; вот оно…»
Как говорят в Индии:
«То, что ты видишь, – это и есть ты, мое дитя».
На мировую сцену выступила завоевательницаДуша. Она узнает во всем этом себя. Эти лихорадочные души – я… Эти притаившиеся силы, распоясавшиеся? демоны, жертвы, жестокости, восторг, насилие – это я… Поднимающиеся со дна могучие порывы, проклятые и священные, – это я…
Что в других, то и во мне. Я пряталась. А теперь сбрасываю с себя покровы. До сих пор я была лишь тенью самой себя. До сих пор дни мои были наполнены мечтой, и мечта, которую я глушила, была моей действительностью. А действительность – вот она! Мир, в котором властвует война… Я…
Какими словами описать то неуловимое, что всходит, как сусло в виноградном чане: тишину и мечту в этой душе вакханки? Это кипение, которое она наблюдает, чувствует, и это тихое головокружение?
Разыгрывается страшная драма; она одно из действующих лиц. Однако выйти на сцену еще не пора: она готова, но ее черед не пришел; в ожидании можно вглядеться в стремительный поток действия. Она впитывает в себя все, что происходит в это единственное мгновение. Наклонившись над потолком, она смотрит, и у нее рябит в глазах, но она будет удерживаться на краю, пока не прозвучит возглас:
– Теперь пора! Бросайся! Поток бурлит и пенится. Плотина прорвана.
Наводнение… Бегство, бойня, пылающие города… За какихнибудь пятнадцать дней человечество Запада нырнуло на дно истории – пятнадцати столетий как не бывало. И вот, как в глубокой древности, закружило вихрем народы, и, вырванные из родной почвы, они отступают перед нашествием…
Нескончаемый прилив беженцев с севера хлынул на Париж, как дождь пепла, предвещающий лаву. Северный вокзал, словно водосток, извергал день за днем целые потоки этого жалкого люда. Большими неопрятными толпами скоплялись грязные, измученные беженцы по краям Страсбургской площади.
Аннета, не имевшая в то время работы, снедаемая жаждой расходовать свои неистраченные силы, бродила среди этого человеческого стада, этих грудившихся усталых людей, которые вдруг, точно в припадке, разражались бурей криков и беспорядочных телодвижений. От возмущения и жалости у нее сжималось сердце. В этом море безымянных бедствий, где она терялась, ей хотелось отыскать кого-нибудь, на ком она могла бы задержать взгляд своих близоруких глаз, кому она могла бы с присущей ей страстностью прийти на помощь.
Войдя в помещение вокзала, Аннета сразу увидела, или, вернее, инстинктивно выбрала двух человек, расположившихся в нише между двумя колоннами: возле распростертого на полу мужчины тут же на земле сидела женщина, державшая его голову у себя на коленях. Тотчас по приезде они свалились у входа в полном изнеможении. Поток пассажиров катился на женщину, которая заслоняла собой мужчину. Она не обращала внимания на то, что ее топчут. Она неотрывно глядела на лицо с сомкнутыми веками. Остановившись и загородив женщину своим телом, Аннета нагнулась, чтобы всмотреться в нее. Она увидела затылок, сильную молочно-белую шею, жесткую рыжую гриву волос, всю в грязных разводах, точно в подтеках сажи, и руки, впившиеся в восковые щеки распростертого мужчины. Мужчины? Чуть ли не мальчика восемнадцати – двадцати лет, почти не дышавшего. Аннете показалось, что он уже кончился. Она услышала низкий и страстный голос женщины, растерянно твердившей:
– Не умирай! Я не хочу!..
Руки ее, испещренные грязными пятнами и синяками, ощупывали глаза, щеки, рот на застывшем лице. Аннета коснулась ее плеча. Женщина не отозвалась. Аннета, став на колени, отвела ее пальцы и положила руку на лицо юноши. Женщина как будто не замечала ее. Аннета сказала:
– Да он еще жив! Его надо спасти! Тогда женщина вцепилась в нее и крикнула:
– Спаси его! Теперь Аннета увидела веснушчатое лицо с крупными и резкими чертами; особенно поражали толстые губы и короткий нос, линия которого, продолженная оттопыренными губами, напоминала очерк звериной морды. Некрасивое лицо: низкий лоб, выдающиеся скулы и челюсти. Жадный рот, копна рыжих волос, придававшая черепу сходство с башней, поставленной на узкий лоб… Обращали на себя внимание и глаза, большие голубые, чисто фламандские глаза, в которых кричала плоть.
Аннета спросила:
– Но он не ранен? Женщина еле слышно произнесла:
– Мы шли, шли без конца. Он выбился из сил.
– Откуда вы?
– Из С… Это на самом севере. Они пришли, все пожгли. Я убила…
Сорвала со стены ружье. И пальнула из-за забора в первого попавшегося. Мы бросились бежать. Когда мы останавливались перевести дух, мы слышали топот их ног. Они катятся, катятся… Все небо чернымчерно… Это как град… И мы бежали, бежали… Он упал… Я его понесла.
– Кто он?
– Мой брат.
– Нельзя же тут валяться в пыли. Вас топчут. Встаньте. Есть у вас в Париже знакомые?
– Никого нет. И ничего у меня нет. Все разорено. Мы бежали без гроша, в чем были.
Аннета решительно сказала:
– Идемте.
– Куда?
– Ко мне.
Они подняли лежавшего: сестра за плечи, Аннета за ноги.
Обе были сильные, а исхудавшее тело весило немного. На площади нашлись носилки; старик рабочий и какой-то мальчуган вызвались нести их.
Сестра упрямо цеплялась за руку брата, путалась в ногах у носильщиков, натыкалась на прохожих. Аннета взяла ее под руку и крепко прижала ее локоть к себе. Когда носилки подскакивали, пальцы женщины судорожно сжимались, а когда носильщики на минуту поставили на землю свою ношу, она опустилась на колени тут же, на тротуаре; она гладила брата по лицу, и с губ ее лился поток слов, суровых и нежных, то французских, то фламандских.
Добрались до дома. Аннета поместила своих новых жильцов в столовой.
Бернардены одолжили ей кровать одного из своих сыновей. Второе ложе устроили на полу, постелив матрац Аннеты. Больной не приходил в себя; его раздели; послали за врачом. Еще до его появления сестра, и слышать не хотевшая об отдыхе, свалилась как подкошенная на постель, и сон поглотил ее на целых пятнадцать часов.
У постели больного осталась Аннета.
Она переводила взгляд с одного лица на другое: с лица брата, воскового, опавшего, будто жизнь понемногу покидала его, на лицо сестры, грубое, распухшее, с широко раскрытым ртом, откуда вместе с дыханием выталкивались, точно порывом ветра, невнятные слова. Аннета, оберегая в ночной тишине сон этих двух существ – сон смерти и сон безумия, впадала в дремоту. И, содрогаясь, спрашивала себя, ради чего впустила она в свой дом это бредовое видение.
До войны между квартирами не было ни малейшего соприкосновения. Ближайших соседей, в лучшем случае, знали по фамилии. В первые же недели войны это расстояние сократилось. Отбросив таможенные рогатки, маленькие провинции соединились в одну нацию. Их чаяния, их страхи перемешались.
Встречаясь на лестнице, жильцы уже не отворачивались друг от друга. Они научились прямо смотреть в лицо один другому и раскланиваться. Перекидывались двумя-тремя словами. Отрешились от своего пугливого индивидуализма, от своей самолюбивой замкнутости и перестали уклоняться от ответа на участливые вопросы. Обменивались новостями об ушедших на фронт родных и о великой родственнице – родине, над которой нависла угроза. У лестницы в ожидании почты собиралась кучка людей; делясь своими тревогами, они согревались теплом взаимного доверия. Они научились быть снисходительными – при случае забывать свои предубеждения с такой же легкостью, с какой эти предубеждения создавались, и молчаливо отбрасывали на время те из них, которые стеной вставали, отделяя их от соседей. Теперь Жирер вступал в разговор с Бернарденом. А благочестивые дамы Бернарден, приветливые, но робкие, мило улыбались Аннете, когда она заговаривала с ними: они решили забыть – до нового поворота событий – свои подозрения насчет таинственной соседки и ее материнства, быть может незаконного…
Жильцы не сблизились между собой, не сделались более терпимыми: то, что они считали недопустимым вчера, не стало допустимым сегодня. Но они старались не видеть того, чего не хотели принять.
Одна лишь маленькая г-жа Шардонне вся ушла в свое горе; она упорно не замечала ласкового взгляда Лидии Мюризье, которая чувствовала, как она страдает, и безмолвно предлагала ей страдать и надеяться вместе.
Все жильцы сверху донизу были пассажирами одного и того же корабля; надвигался тайфун. Опасность сравняла всех… Почему не весь мир в опасности? (Будет еще и это…) Тогда все народы, наперекор своему естеству, слились бы в единое человечество! Но при двух условиях: первое – чтобы никто не рассчитывал уйти от опасности в одиночку; второе – чтобы надежда на спасение оставалась у всех; если она окончательно исчезнет, человек перестанет быть человеком. Эти два условия никогда не сочетаются надолго. Но в то время оба эти условия были налицо.
Мощный вал немецких орд ударился почти о самые стены Парижа. Правительство удрало. Весь дом говорил о его бегстве в Бордо с негодованием и презрением. Сильвия была вне себя от злости. Ей пришли на память прадедовские времена, когда король Людовик дал тягу. Несдобровать бы героям Шато-Марго, подвернись они только ей под ножницы! Но уж с ними сочтутся потом. Теперь есть дела поважнее. Тетушка и племянник, Марк и Сильвия рыли землю, возили ее в тачках, возводили насыпи по распоряжению Галлиени, который старался чем-нибудь занять лихорадочно возбужденных парижан.
Паники не было. Выжидали, надеялись на лучшее, готовились к худшему.
Марк с нежностью ощупывал в кармане свой знаменитый револьвер; он чуть ли не желал вторжения немцев в Париж – только чтобы испытать свое оружие. Аннета, у которой от волнения горели руки, была внешне спокойна и чувствовала себя как нельзя лучше: наконец-то и ей с сыном угрожает опасность! Это уже облегчение… Другие испытывали то же самое. Терзаемым тревогой родителям становилось легче при мысли, что они хоть отчасти разделяют опасность, нависшую над их сыновьями.
Лидия Мюризье бывает у Аннеты, читает ей письма своего жениха. Эти две женщины потянулись друг к другу еще раньше, чем познакомились. Аннета подслушала тайную песню ручья, бегущего по лугу. А Лидия прочла в нежной улыбке старшей сестры, что у нее есть ключ к этой музыке, – у нее одной во всем доме. И Лидии приятно быть понятой. Но они ни слова не говорят друг другу об этой песне сердца. Среди грохота орудий запрещено вслушиваться в музыку мирных дней, в мелодию флейты, оплакивающей прошлое счастье. Лидия читает письма возлюбленного, славящего высокий долг солдат Цивилизации. Молодой стоик изливает на нее холодный свет своих идей. Влюбленная Лидия купается в нем с трепетной радостью. От ее душевного тепла снег этих идей тает. Лидия еще дитя; мрачную жертву она скрашивает иллюзией, для нее героизм – наполовину игра. Она знает, что он чреват опасностями, но верит, хочет верить в покровительство бога – ее бога, оберегающего ее любовь. (Ведь ее бог и ее любовь – на одно лицо!).
Лидия кажется жизнерадостной, счастливой, она смеется приятным горловым смехом, как смеются дети. И неожиданно разражается плачем: тогда уж от нее не добьешься ни слова. Аннета жалеет ее. Она видит, что Лидия опьяняет себя мыслями, которые выпаливает горячо, одним духом, пока не собьется и не остановится… (Не напутала ли она чего-нибудь? Мило и застенчиво улыбаясь, она просит извинения взглядом.) Аннета с удовольствием взяла бы ее на руки и сказала бы:
«Все это, детка, с чужого голоса. Прижми свой лоб к моим губам! Когда ты молчишь, я слышу биение твоего сердца…»
Но не надо говорить ей об этом. Она поступает правильно. Пусть декламирует затверженные слова, лишь бы найти в них забвение! Мысли убаюкивают сердце.
Весь дом упивается ими. И это упоение совсем уже не знает границ в те дни, в те пять дней, когда развертывается битва народов. Обостряются врожденные инстинкты обороны, взаимопомощи, славы, жертвы… Приходит день, когда на площади Нотр-Дам толпа молит о заступничестве Девственницу. С одной из галерей базилики кардинал бросает слово:
– Победа! И все замирает. Взлет прервался. Душа снова опускается на землю.
С октября война топчется на месте. Самая страшная угроза миновала.
Заноза впилась в тело надолго, и в него проникает яд. Надо устраиваться так, чтобы продержаться годы. Но у кого хватит твердости взглянуть в лицо этим годам? И мы обманываем себя. Нас обманывают. Для поддержания энтузиазма прибегают к искусственным возбудителям: к «шумихе» в печати – к ее «уткам» и страшным сказкам. (Уж это неотъемлемая привилегия печати: она подбирает то, что есть, да еще с радостью людоеда измышляет сама.) И публика пробуждается от своего оцепенения, сотрясаемая, точно пьяница, порывами бешеной ненависти.
Дом варится в собственном соку-скорби, гнева нетерпения, тоски. Зима ползет медленно. В ее сумеречном свете мечутся люди, охваченные лихорадочным брожением.
Беженцы с севера, Аполлина и Алексис Кьерси, так и остались у Аннеты.
Она взяла их к себе на несколько недель, до выздоровления брата Аполлины, до приискания квартиры и работы. А они и не собираются заняться поисками. Они находили вполне естественным, что Аннета приютила их. К чему церемониться? Не их забота, сколько она тратит на своих жильцов. Они считают себя жертвами, перед которыми в долгу вся Франция. Аполлина пеняет на неудобства: в столовой, мол, тесно. Она не заявляет претензий на комнату Аннеты, но если бы ей предложили занять ее, она без околичностей сказала бы: «Спасибо». Марк был вне себя. Он чувствовал непреодолимое отвращение к этой женщине.
Странные это были гости. Алексис по целым дням валялся в постели.
Аполлина не выходила за порог, заставить их проветрить комнату было нелегким делом. Они сидели в четырех стенах без движения. Алексис был от природы увальнем, а сейчас он все еще чувствовал себя разбитым после августовского бегства. У него были курчавые русые волосы, низко спускавшиеся на узкий выпуклый лоб, маленькие блекло-голубые глаза, толстые, всегда полуоткрытые губы: Алексис дышал ртом. Он был похож на сестру, но роль мужчины играла она. Алексис мало говорил и всегда был погружен в какие-то смутные мечты или бормотал молитвы, перебирая четки. Молитвы – это как люлька, в которой дремлет убаюканная душа. Брат и сестра были набожны на свой лад. Бог был их собственностью; они расположились в нем, как в доме Аннеты: пусть другие кочуют с квартиры на квартиру. Вялый, но упорный Алексис, казалось, прирастал к месту. Двигаться он предоставлял Аполлине.
В этой девушке таилась звериная энергия, но она ее душила в себе. Целыми часами сидела – она, вся скрючившись за шитьем, по которому ловко двигались ее нетерпеливые пальцы. Внезапно она бросала работу куда попало, вскакивала и, потоптавшись на месте, принималась ходить: шагала и шагала по кругу, на тесном пространстве между кроватью и окном; останавливалась, чтобы показать кулак невидимому врагу; грозилась выцарапать ему глаза – и говорила, говорила, то стеная, то рыча, то угрожая, без конца пережевывая одно и то же. Потом неожиданно бросалась в постель брата и начинала душить его в объятиях; изливала на него поток страстных слов, в котором тонули плаксивые и монотонные возгласы Алексиса. И, наконец, – наконец, наступала тишина! Казалось, в комнате была смерть.
Довольно беспокойное соседство. Но Аннета не смела выказывать неудовольствие. Она жалела своих жильцов: надо терпеливо относиться друг к другу. Страдали, правда, все, но на их долю выпало особенно много страданий. У них на глазах сгорел дом вместе с дряхлой матерью, у них на глазах расстреляли старого слугу; неудивительно, что их ум все еще потрясен. Аннета считала себя обязанной, раз ее миновали подобные напасти, сносить тягостное присутствие жильцов. С ней одной Аполлина еще готова была общаться. Впрочем, тесной близости между ними не возникло. Необузданная Аполлина внезапно переходила от мрачной злобы к проблескам симпатии, а затем опять отшатывалась от Аннеты. В редкие минуты общения казалось, что она угадывает в характере своей хозяйки некоторые родственные черты. И как раз не те, которые Аннете приятно было бы в себе видеть, – это ее раздражало. Когда между ними снова вставала стена, Аннета чувствовала облегчение. Но попытки сблизиться были редки. Чаще эгоистка Аполлина погружалась в мутное и бурливое болото своей души. От него исходили испарения, вызывающие лихорадку. Марк втягивал их в себя, как молодой пес, делающий стойку, – в нем боролись влечение и брезгливость. Он ненавидел Аполлину и выслеживал ее. В бессонные ночи Аннету угнетала эта атмосфера удушливой страсти.
Можно было подумать, что миазмы болотной лихорадки, распространяясь по всей лестнице, просачиваются из-под дверей. На той же площадке, против Аннеты, билась в лихорадочном ознобе Кларисса. Запершись в четырех стенах, она никого не хотела видеть и злилась на весь свет. В душе ее был холод, была ночь. Клариссе казалось, что вся кровь в ней застыла, что она постепенно каменеет, как кора замерзшего дерева. Только письма ушедшего изредка обдавали ее волной тепла. Она читала их с сухими глазами, с оледеневшим сердцем: расставшись с Клариссой, он украл у нее солнце ее ночей. Смяв прочитанное письмо, она зажимала его, как шарик, в кулаке. И, однако, Кларисса отвечала коротким и пустым письмом, не отражавшим того, что она выстрадала, что она хотела и его заставить выстрадать. Она ничего не скрывала; она была из тех, для кого писать значит говорить обо всем, что происходит вокруг, но только не внутри них: о делах, но не о мыслях. О своем заветном Кларисса не вела беседы даже с самой собой. Чтобы говорить со своим сердцем, надо чувствовать его биение.
Ее же сердце застыло. Она, как стеной, отгородилась от мира злобой.
Но весна растопила лед. Однажды до Марка донесся ее смех. Она двигалась по комнате, смотрелась в зеркало. Ее стали встречать на лестнице.
Выходила она из дому поздно. Кларисса всегда была одета со вкусом: эта дочь Парижа инстинктивно понимала, что ей к лицу; линии ее хрупкого тела, все ее движения отличались кошачьей гибкостью, и в глазах у нее мерцал тот холодный тлеющий огонек, какой бывает у кошек. Двигалась она бесшумно, старалась не останавливаться; в виде приветствия только наклоняла голову, а если к ней обращались, ограничивалась двумя-тремя учтивыми словами и проходила мимо. У нее не было охоты говорить о себе или выслушивать других.
«Я иду своим путем, а вы идите своим!»
Она держала себя как чужая. А люди простят вам все, но не простят отказа есть из одной тарелки с ними. Вокруг молодой женщины ткалась паутина недоброжелательства. Ей это было безразлично. Впрочем, все были заняты и не следили за ней. Лишь один человек ждал ее возвращения по ночам, и воображение его кипело, – Марк. Все тот же Марк… Нечего сказать, приятное у него окружение! Справа и слева от его постели – обезумевшие девы. Их распаленные тела… Над Парижем носится ветер сладострастия. А сладострастие сродни ненависти.
Ненависть тоже может быть целомудренной. В семье Бернарденов она переплелась с мыслью о том, кто претерпел все муки. Когда святейший владыка разослал во все христианские страны «Молитву о мире», государство и духовенство распорядились ею по-своему. Оба этих куманька спелись друг с другом: голос всевышнего они решили пропустить через фильтр. Верующие возмутились. В них закипела галликанская кровь. Бернарденотец, человек набожный, но вспыльчивый, метал громы и молнии против иноземца-папы. К счастью, во Франции есть святые люди, которые умеют подать слово божие под любым соусом.
«Ваше святейшество, вы призываете нас молиться о мире… Очень хорошо! Сейчас мы все это объясним… Да будет воля твоя, если только она совпадает с нашей!.. Мир, мир, братья мои…»
«Мир-это победа», – послушно вторят кардиналуархиепископу своды Собора Богоматери.
А золоченые часы церкви св. Магдалины откликаются:
«Да будет мир, о боже, истинный мир, твой мир, то есть наш, но не мир врага, которого мы хотим сокрушить!..»
Вся суть – только в определении…
И христианская совесть уже чиста. Бернардены, говоря о папе и его пастырях, выражают полнейшее удовлетворение. У старого судьи поучительный тон забавно окрашивается ноткой коварной радости, которую доставляет ему выворачивание наизнанку текста закона. Когда он склоняется перед алтарем, его взгляд выражает и благочестие и упрямство; он украдкой улыбается в свою жесткую бороду:
«Чистая работа… Fiat voluntas tua!..[58] Святейший владыка, с вами сыграли шуточку…»
А отец Сертильянж исторгает слезы исступленного восторга у бедных женщин, которым видится Христос в солдатской шинели среди их сыновей в траншее Гефсиманской. Произошло ужасное перевоплощение, и воспаленным от слез глазам, отчаявшимся душам поле бойни явилось алтарем, где в чаше из грязи и золота, из страдания и славы приносится в жертву божественная кровь.
И первым испил ее – до упоения отчаянием – юный, созданный для поцелуев рот Лидии Мюризье.
Ее любимый пал. В первые же дни сентября. Это стало известно не сразу. В сумятице, среди сшибавшихся полчищ, которые нападали, отступали и снова, опустив голову и топча тела мертвых, шли на стену живой плоти, не было времени подсчитывать потери. Лидия еще читала, полная надежды, письма живого, а он уже две недели как бесследно исчез с лица земли. Родина была спасена; невозможно было вообразить себе, что спасители не спаслись… В октябре на дом обрушился смертный приговор. Он был тем более жесток, что не оставлял никаких сомнений. Товарищ умершего указал день, час, место. Приговор обрушился. А дом продолжал стоять, как прежде. Жирер заперся у себя. Если бы не привратник, которому было известно все, никто не узнал бы о свершившемся. Лидия проскользнула по лестнице, как тень; она пришла к своему свекру; она теперь жила у него. Но квартира, казалось, вымерла. Оттуда не доносилось ни звука. Аннета, спускаясь по лестнице, проходила мимо этой квартиры. Молчание душило ее, но она не смела его прервать…
Наконец она постучалась; спустя некоторое время Лидия отворила дверь.
В полутемном коридоре нельзя было разглядеть ее лицо. Женщины безмолвно обнялись. Лидия молча плакала. Аннета чувствовала на своей щеке влагу, струившуюся из-под воспаленных век. Лидия взяла ее за руку и повела к себе. Было шесть часов вечера; свет проникал сюда только из соседней комнаты. Там, вероятно, находился Жирер, но его не было слышно. Аннета и Лидия сели; они держались за руки и говорили вполголоса; Лидия сказала:
– Сегодня вечером я уезжаю.
– Куда?
– На поиски.
Аннета не смела подробно расспрашивать.
– Куда же?
– Туда, где спит мой любимый.
– Куда же именно?
– Ведь место боя сегодня отбито.
– Но как же вы сумеете среди стольких тысяч…
– Он укажет мне путь. Я знаю, что найду его.
Аннете хотелось крикнуть:
«Не надо вам ехать! Не надо!.. Он живет в вас. Зачем искать его в смраде бойни?»
Но она сознавала, что Лидия уже не свободна; Аннета касалась ее рук, но эти руки держал покойник.
– Бедная моя детка, не проводить ли мне вас? – спросила Аннета.
Лидия ответила:
– Спасибо.
И, указывая на освещенную дверь, прибавила:
– Со мной едет отец.
Они простились.
Вечером Аннета расслышала на лестнице легкие, усталые шаги уезжающих.
Через десять дней они вернулись к себе так же бесшумно, как уехали.
Аннета об этом не знала. Услышав звонок, она отворила дверь и на пороге увидела Лидию в трауре, ее скорбную улыбку. Ей показалось, что это Эвридика, возвращающаяся без Орфея. Аннета обняла ее и почти унесла в свою комнату. Потом заперла дверь. Маленькая невеста торопливо рассказала ей о своем путешествии в страну мертвых. Она не плакала; в ее глазах была восторженная радость, но это еще больше надрывало душу. Она тихо сказала:
– Я его нашла… Он вел меня… Мы блуждали по развороченным полям, среди могил. Устали, отчаялись… Когда мы вошли в небольшую рощицу, мне показалось, что я услышала его голос: «Иди!..» Рощица карликовых дубов… Повсюду валялось окровавленное белье, письма, лоскутья… Здесь был окружен целый полк. Я вошла. Он вел меня. Отец сказал мне: «Зачем?
Довольно. Пойдемте назад». У подножия дуба, стоявшего в стороне от других, я нагнулась и подобрала во мху клочок бумаги… Я взглянула… Мое письмо! Последнее, которое он вскрыл!.. И на нем его кровь. Я целовала траву, я легла на том месте, где он лежал, распростертый; это была наша постель; я почувствовала себя счастливой, – хорошо бы уснуть так навеки!
Все, даже самый воздух насыщен там героизмом…
В ее улыбке были экстаз и отчаяние. Аннета не смела на нее взглянуть…
А Жирер словно окаменел. Этот несгибаемый человек вернулся к работе.
Он не разговаривал ни с кем. Но в своих лекциях, речах, пылких статьях Жирер призывал к беспощадному крестовому походу, он ожесточенно нападал, убивал душу врага, хлестал ее, отсекал от человечества. В доме все кланялись ему, но старались не попадаться на глаза; когда он проходил по лестнице, его взгляд, казалось, порицал тех, кто еще остался жив. И живые чувствовали себя в чем-то виноватыми перед ним. Чтобы найти козла отпущения, они инстинктивно накапливали какие-то неопределенные обвинения, – по молчаливому уговору они собирались нанести удар человеку, жившему наверху, – тому, который не ушел на фронт.
Клапье (Жозефену), человеку с больным сердцем… Очень удобная болезнь, чтобы увильнуть от призыва. У истинного француза сердце всегда должно быть достаточно крепким, чтобы умереть в бою… Но он из тех, кто накликал на нас войну и нашествие врага, – пацифист!..
Это был благовоспитанный, застенчивый юноша, хороший писатель, которому хотелось одного: мирно жить наедине со своим пером и старыми книгами. Стоило Клапье наклониться над пролетом лестницы, как ему начинало казаться, что он вдыхает поднимающиеся снизу миазмы подозрения. Все двери на его пути приотворялись: за ним следили. Когда же он раскланивался, люди делали вид, что не замечают его. Брошон, забившись в свою будку, отворачивался, но на улице Клапье чувствовал, что Брошон идет за ним следом, шагах в тридцати. Встречаясь с соседками, женами рабочих, на площадке своего этажа, он читал в их глазах обидные мысли, издевку…
Все это Клапье сочинял больше чем наполовину сам. Ведь сочинять было его ремеслом. Он был одарен воображением, которое жужжало, как стекло горелки Ауэра. И Клапье впал в отчаяние. Он жил в одиночестве, а ведь одного эстетизма недостаточно, чтобы долго выносить одиночество мысли.
Нужен еще и характер, но этот товар не сыщешь на дне чернильницы. Правда, красивые слова обязывают держаться стойко. Когда же не хватает стойкости, красивые слова обязывают лгать. Клапье нетрудно было с их помощью приспособить себя и свой пацифизм к мужественной задаче, которой требовал свирепый дух дома. Он поступил в цензуру. Он перлюстрировал письма.
Клапье не был негодяем. Он никому не желал зла. Но так как слабые люди, сойдя с пути, заходят всегда дальше, чем сильные, он переусердствовал, перегнул палку. Клапье стал разоблачать козни пацифистов. Он решил не складывать рук до тех пор, пока не заставит своих старых соратников, по его примеру, отправиться в Каноссу. Ренегат жаждет каяться вкупе с другими. Горе тем, кто сопротивляется ему! Этот добродушный человек с нежными руками чувствовал, как у него отрастают на кончиках пальцев когти Государства. Его дряблое сердце забилось так бурно, что он возомнил себя Корнелем. Он сделался римлянином. Он готов был, поскольку это от него зависело, повести на заклание всех своих.
Этой ценой он снискал благоволение Брошона. Но он никак не мог понять, почему добрые патриоты вроде Аннеты, теперь, завидя его, поворачиваются к нему спиной.
Аннета была смущена. Она утратила уверенность, которую ощущала в начале войны. Шли дни, месяцы – тревога росла. Работы у нее было мало – и слишком много досуга для раздумья. И она почуяла тот чудовищный Дух, который завладевал всеми окружающими ее людьми – самыми грубыми и самыми обаятельными. Все было неестественно: и пороки и добродетели. Все – торжественая любовь, геройство и страх, вера в себялюбие, самоотверженная жертва – на всем была печать болезни. И болезнь развивалась, она не обходила никого.
Это тем больше удручало Аннету, что она не сводила болезнь к случайности: она и не думала винить в ней чью-то злую волю, чьи-то козни, ни на кого не возлагала ответственности; она не знала, что такое эта война; она знала, что такое война вообще. Бои, совещания протекали вдали от нее, она не могла разглядеть морду Зверя, но ощущала на своем лице его отравленное дыхание. Более чем когда-либо война представала перед ней как явление природы (разложение не менее естественно, чем органическое соединение), но явление патологическое, вроде духовной заразы. Обычно никто не выставляет напоказ свою болезнь, а эту выставляют, точно святые дары; ее украшают фразами об идеале и боге, как мясник украшает говяжьи туши позолоченными бумажными цветами. Любая из этих идей, даже самых искренних, была не свободна от фальши, от низкопоклонства перед чудовищем, заражавшим их проказой. Аннета узнавала ее симптомы в себе самой.
Она горела той же страстью к убийству и жертвоприношению, – всем тем, что не признает сердце и чувство, но что окружает ореолом лицемерный разум. Ее ночи были заполнены тяжелой и преступной жизнью сновидений.
Но, быть может, Аннета, если бы дело шло только о ней, и не боролась бы с этим ядом. Ведь он отравлял ее наравне со всеми другими. Ей причиталась некая доля его, как и доля опасностей. Зачем же ей устраняться?
Она переносила бы его высокомерно, с отвращением, запрещая себе лишь одно: прибегать к румянам. Она уступила бы, если б не видела его ужасающего действия на того, кто был ей дороже света очей.
Болезнь захватила и Марка. Гораздо сильнее, чем взрослых, так как его организм был менее защищен. Ничто из того, что совершалось в доме и за его стенами, не укрывалось от Марка. Его глаза и уши, его обоняние, все его тело, как резонатор, ловило нервные токи, исходившие от этих насыщенных электричеством душ. Он был одарен беспокойным, более зрелым, чем его ум, инстинктом, помогавшим ему угадывать таинственные драмы совести.







