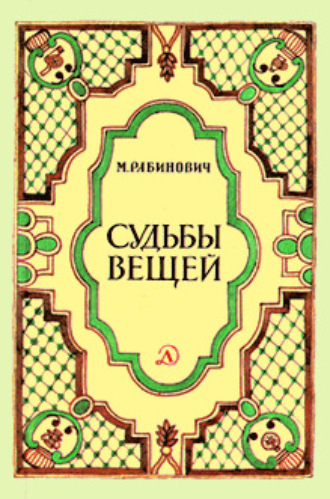
Михаил Григорьевич Рабинович
Судьбы вещей
ПУШКИНСКИЙ РАДИЩЕВ

Книги сопровождают нас всюду. Без них мы не могли бы ни учиться, ни работать, ни отдыхать. У нас книги и журналы печатаются в десятках и сотнях тысяч, а то и в миллионах экземпляров. Мы уже настолько привыкли к печатной книге, что с трудом представляем себе, как это жили люди пятьсот лет назад, когда еще не знали книгопечатания.
Только это изобретение дало возможность приобщиться к сокровищам человеческой мысли, знания, культуры не единицам избранных, а массам людей.
Но бывают и печатные книги, которых очень мало: иногда даже во всем мире едва ли не несколько экземпляров. Такие книги называются редкими, особенно ценятся и хранятся в специальных отделах библиотек.
Иногда бывает, что книга сразу задумана, как редкая, предназначенная для узкого круга читателей (прежде – только для любителей и собирателей книг – библиофилов). В этих случаях печатается очень мало экземпляров, обычно каждый под своим особым номером или с личной надписью автора. «Все экземпляры этой книги, не подписанные автором, – напечатано на одном томике стихов Баратынского, – суть поддельные и продаватели их будут преследоваться по законам». А далее чернилами подпись: «Е. Боратынский».
Но чаще книга предназначается для многих; печатается, по возможности, «большой тираж», как говорят специалисты. И все же проходят сотни лет, десятки, а то и только годы – и книга становится редкой. Прежде всего, потому, что год за годом, век за веком растет число читателей, и то, что казалось достаточным даже пятьдесят лет назад, теперь до смешного мало. А книги к тому же далеко не вечны. Это – тоже вещи. Они теряются, треплются – словом, исчезают.
Бывало и так, что книга не истрепалась, не потерялась, а все же исчезла; и притом не через века, а через годы или какие-то месяцы, может быть, даже дни после того, как покинула типографию.
Иногда – по воле самого автора. Известно, например, что Гоголь издал свое первое творение – идиллическую поэму «Ганц Кюхельгартен» – на собственный счет и вскоре же, убедившись в том, что это – вещь слабая, сам скупил в книжных лавках почти все экземпляры поэмы и уничтожил их. Остались лишь книги, которые продали до того. Так «Ганц Кюхельгартен» стал редкой книгой.
А иногда – и против воли автора.
Вот об одной такой книге и пойдет сейчас речь.
Эта старинная книжка невелика; она легко могла уместиться в тогдашних довольно объемистых карманах. Видно, ее очень ценили: любовно переплели в красный сафьян, украсили переплет золотым тиснением, обрез листов тоже позолотили.
Раскроем книжку. На первом белом листе увидим знакомую подпись: «А. Пушкинъ».
Нет, он не автор этой книги. Он – владелец ее. Это Александр Сергеевич Пушкин своей рукой записал тут же на развороте: «Экземпляр, бывший в тайной канцелярии. Заплачен двести рублей».
Что же это за книга, за которую поэт, как известно, всегда испытывавший денежные затруднения, не пожалел заплатить двести рублей – деньги в ту пору немалые?
Это – «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева.
В Санкт-Петербурге недалеко от Московского вокзала есть на одной улице один дом. Официальный адрес – улица Марата, 14 – вряд ли вам что-нибудь скажет. Дом, пожалуй, ничем не отличался бы от своих соседей – таких же домов, тесно стоящих друг к другу «плечом к плечу». Если посмотреть на каждый из них, то можно заметить, что он старый, построен лет двести назад, а лет сто назад – или поменьше того – перестроен, что теперь недурно бы дать ему снова капитальный ремонт. И этот дом не отличался бы от других, если бы на нем не было мраморной доски с надписью, что здесь жил Александр Николаевич Радищев и здесь, в своей собственной типографии, он отпечатал «Путешествие из Петербурга в Москву».
«Путешествие из Петербурга в Москву»… Его без преувеличения можно назвать самой значительной русской книгой XVIII века. Но судьба этой книги была поистине трагична. Екатерина Вторая, разъяренная дерзостью Радищева, велела арестовать его и предать суду, а книгу, конечно, уничтожить. Сохранились ее собственноручные пометки, сделанные при чтении «Путешествия».
«Книга печатана в 1790 г. без подписи типографии и без видимого дозволения, но в конце сказано: с дозволения управы благочиния. Сие вероятно ложь, либо оплошность, – писала императрица. – Намерение сей книги в каждом листе видно: сочинитель оной исполнен и заражен французским заблуждением (Екатерина имеет в виду идеи французской революции), ищет всячески и выищивает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народу в негодование против начальников и начальства».
Что ж, по-русски не слишком грамотно, но зато высокопоставленная рецензентка вполне уловила, что книга направлена против возглавляемой ею крепостнической системы, следовательно, и против нее лично.
Автор, по ее мнению, «сложения унылого и все видит в темно-черном виде… едит оплакивать судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лутчее судьбы наших крестьян у хорошова помещика нет во всей вселенной». Вот, оказывается, как! Судьба российского крепостного – лучшая даже во всей вселенной, а не только на нашей грешной земле!
Радищев напечатал всего 650 экземпляров своей книги. В мае 1790 года она начала продаваться, а 30 июня автор уже был арестован, а книга запрещена. Радищев, о котором сама императрица сказала, что он «бунтовщик хуже Пугачева», суд, конечно, осудил на смертную казнь. Но Екатерина, испугавшись общественного мнения, «помиловала» Радищева, заменив казнь ссылкой в Сибирь на «десятилетнее безысходное пребывание».
Казалось, крамолу вырвали с корнем. Но идеи Радищева продолжали распространяться. Те немногие экземпляры книги, что были проданы до наложения запрета, ценились очень высоко.
Но экземпляр Пушкина, конечно, превосходил их ценой. Ведь он побывал в самой Тайной канцелярии!
На страницах этой книги много пометок красным карандашом. Крупные косые крестики вытянулись на полях один под другим, образуя как бы цепочку. Сравнив отмеченные крестиками места с замечаниями, сделанными Екатериной, ученые думают, что, может быть, карандаш этот держала в руках сама царица, иначе говоря, что в библиотеку Пушкина попала та самая книга, которой пользовалась в свое время Екатерина Вторая.
Видимо, Пушкин внимательно, и притом не раз, читал «Путешествие». Книга произвела на него такое сильное впечатление, что он не только побывал сам в тех местах, о которых говорилось у Радищева, но и написал свое «Путешествие из Москвы в Петербург».
Есть разные мнения об этом произведении, как будто бы во всем противоречащем Радищеву.
Вероятно, правы те, кто думает, что, ведя, подобно Радищеву, рассказ от имени некоего Путешественника, а не от себя, Пушкин вложил в его уста разные «благонамеренные речи» с тем, чтобы обойти царскую цензуру и хотя бы таким окольным путем сообщить читателю главнейшие мысли самого крамольного автора, которые и приводятся тут же, якобы для того, чтобы на них возразить.
Но вы, вероятно, удивитесь, если я скажу, что Пушкин испытал на себе влияние Радищева не только как человек, но и как поэт. Испытал влияние не одних только идей Радищева, но и его поэтических художественных образов. Об этом не говорят обычно пушкиноведы, но мне пришла в голову такая мысль, когда я очередной раз перечитывал вошедшую в радищевское «Путешествие» оду «Вольность». Там есть образ мрачного тирана, олицетворяющего самодержавие. Автор вкладывает в его уста, между прочим, и такие слова:
«Где я смеюсь, там все смеется;
Нахмурюсь грозно, все смятется;
Живешь тогда, велю коль жить».
Не правда ли, есть в этом образе что-то нам с детства знакомое?
Вспомните, как пушкинская Татьяна видит во сне Онегина в образе мрачного тирана, главаря шайки чудовищ:
«Он знак подаст – и все хлопочут;
Он пьет – все пьют и все кричат.
Он засмеется – все хохочут.
Нахмурит брови – все молчат.
Он здесь хозяин – это ясно…»
Кажется, ясно и то, что этот пушкинский образ в известной мере навеян радищевским образом.
«Путешествие» Радищева оказало огромное влияние на лучших людей России. Царский запрет оказался бессилен, хоть и уничтожили почти весь тираж книги. Известно, что продано было всего 25 экземпляров, да еще несколько Радищев подарил разным лицам, в том числе Г. Р. Державину, и больше она не переиздавалась. Через несколько лет после смерти Радищева его сыновья издали «Собрание оставшихся произведений покойного Александра Николаевича Радищева с его портретом». Конечно, сюда не вошло «Путешествие из Петербурга в Москву». Но книга не канула в вечность. Не только в пушкинской библиотеке приютилась она. С одной из ее «сестер» перепечатал «Путешествие» в своей лондонской типографии Александр Иванович Герцен.
В России «Путешествие из Петербурга в Москву» было снова издано только после 1905 года.
Итак, эту небольшую книгу напечатал своими руками Александр Николаевич Радищев – великий русский мыслитель.
Она попала в руки самой императрице Екатерине Второй, вызвала, конечно, ее гнев и тем определила как судьбу почти всех других книг этого тиража, которые были по царскому приказу уничтожены, так и судьбу самого автора, испытавшего за нее не только тюрьму и ссылку, но и ужас осуждения на смерть (не забудем, что приговор суда был ему объявлен, и только потом сообщено о «помиловании»!).
Сама же книга уцелела. Наверное, Екатерина отдала ее в свою Тайную канцелярию для приобщения к «делу» Радищева. Здесь книга пролежала несколько десятков лет, пережив своего автора.
Как случилось, что ее изъяли и даже продали, сказать трудно. Но надо думать, тот, кто это сделал, немало нажился на редкой книге. Вряд ли ее продали сразу Пушкину: скорее, она прошла еще через чьи-то руки. Но в библиотеке поэта заняла сразу почетное место. Наверное, Пушкин и отдал ее переплести, любил и хранил ее, как одно из ценнейших сокровищ своей прекрасной библиотеки. Но показывал, конечно, только самым ближайшим друзьям: книга была запрещенная, даже держать ее дома было небезопасно.
Что случилось с книгой после гибели поэта, в точности сказать трудно. Может быть, ее сразу же изъяли, хоть и не числится она в составленной жандармами описи. Во всяком случае, книга не разделила полностью судьбы всей библиотеки Пушкина, кочевавшей по различным складам и имениям его наследников до начала нашего столетия, когда ее целиком купил Пушкинский дом.
Пушкинский экземпляр Радищева попал еще в 1889 году в Петербургскую Публичную библиотеку, а почти полвека спустя, когда готовилась выставка, посвященная столетию со дня смерти поэта, был прислан в Москву, и я сам видел его в зале Исторического музея, где размещалась выставка. Потом выставка побывала в Санкт-Петербурге, в залах Эрмитажа, а еще позже из нее создали музей А. С. Пушкина в городе Пушкине (бывшем Царском Селе). Недавно вновь открылась экспозиция этого музея в залах бывшего Екатерининского дворца.
Не своеобразная ли это ирония судьбы, что книга, так долго гонимая царями, теперь, когда цари давно изгнаны, переезжает из одного царского дворца в другой?
ПАМЯТНАЯ ДОСКА ПРОХОРОВЫХ

Всем известно, что такое памятные, или, выражаясь по-ученому, мемориальные, доски. Они прямо-таки вошли в нашу жизнь. Не только в городах, но и в селах можно зачастую увидеть памятные доски, рассказывающие прохожему, что на этом месте или в этом доме произошло такое-то важное для всех нас событие. Памятные доски укрепляют на стенах домов, мостах и иных постройках, но иногда и просто на улице. Они бывают мраморные и гранитные, бронзовые и чугунные.
В небольшом селе Петрищеве есть мемориальная доска на доме, где провела свои последние часы перед казнью героиня Великой Отечественной войны Зоя Космодемьянская.
В разных городах и селах России мемориальные доски рассказывают, о происшедших здесь каких либо событиях. А сколько их посвящено одному только Пушкину! И где-нибудь в самом неожиданном месте вы можете вдруг прочесть, что здесь жил и работал в такие-то годы такой-то крупный деятель науки или культуры, например Сергей Тимофеевич Аксаков.
Надо сказать, что обычай ставить памятные доски не новый. Он возник в глубокой древности. Еще властители Двуречья и египетские фараоны делали разные надписи для потомства о своих победах, об изданных ими законах и т. п. В античных городах имеется множество надписей, вырезанных на камнях и рассказывающих о деяниях полководцев и строителей.
И от эпохи средневековья до нас дошли некоторые памятные надписи. Так, новгородец Иванко Павлович оставил надпись, которая гласит: «В лето 6641 (1133) месяца июля 14 день почях рыти реку сю яз Иванко Павловиць и крест сей поставих». Этот памятник стоит в верховьях Волги, при впадении ее в озеро Стерж. Наверное, Иванко Павлович начал какие-то большие земляные работы в верховьях Волги, для того чтобы новгородские бусы-корабли могли лучше плавать.
Мы можем увидеть на старинных зданиях, например, мраморные доски с надписями о том, что в этом доме учился писатель Гончаров, а еще раньше родился историк Соловьев, что здесь жил Суворов, а на каком-нибудь мосту, что он построен на средства таких-то и таких-то таким-то архитектором, открыт такого-то числа месяца и года в присутствии таких-то высокопоставленных особ (как, например, б. Троицкий мост в Санкт-Петербурге, самого «государя императора самодержца Всероссийского» Николая II и президента Франции господина Феликса Фора). Что же, может быть, это и в самом деле очень хороший мост и стоило водрузить эту доску? Ведь он служит до сих пор. Наконец, в палатах ростовского кремля я видел мемориальную доску, где написано, на средства каких купцов был реставрирован тот или иной древний зал или церковь. И это было дело благородное, может быть, заслуживавшее мемориальной доски.
Но хочется рассказать об одной необычной памятной доске.
Ее нашли лет тридцать назад при благоустройстве двора на знаменитой и сейчас Трехгорной мануфактуре. Раньше фабрика принадлежала богатым заводчикам Прохоровым и называлась Прохоровской мануфактурой. «Мануфактурой» – не потому, что она выпускала различные ткани, а потому, что так в ту пору назывались крупные производства с большим количеством рабочих.
Находка не была совсем неожиданной.
Старые работники Трехгорки помнили, что когда-то во дворе фабрики был какой-то «мемориал», или памятник, который особо оберегали хозяева. Одни говорили, что он был на стене ветхого здания, другие – что стоял сам по себе.
В роскошно изданной еще самими Прохоровыми «Истории Прохоровской мануфактуры» говорилось о памятной доске на стене одного из зданий.
Строго говоря, прохоровский памятник не был разрушен или тем более сознательно уничтожен. Просто, когда фабрика перешла в руки рабочих, а прежние хозяева навсегда исчезли оттуда, никто не заботился о мемориальной доске по причине полного отсутствия интереса к ней. И «мемориал» исчез не только из памяти людей, но и с их глаз. Может быть, прогнили крепления, может быть, был какой-нибудь ремонт. Так или иначе, только он был вновь найден, когда фабричный двор стали очередной раз чистить и благоустраивать.
Это была довольно большая, целиком отлитая из чугуна доска. Буквы на ней сильно оборжавели, но еще хорошо читалась надпись:
«На этой горке 1812 года в бытность Наполеона с войсками в Москве московский фабрикант Василий Иванович и сын его Иван Васильевич Прохоровы спасались от пламени, объявшего Москву, и грабежа неприятелей. Во всех неистовых поступках преимуществовали перед другими нациями поляки и италиянцы. Французской же гвардии Полковник не допустил до разграбления последний запас муки и картофеля, и тем запасом Прохоровы продовольствовались до конца сентября месяца выхода своего из Москвы в Зарайск, куда его супруга Екатерина Никифоровна с сыновьями Константином и Яковом и дочерью Анною В. выехали 25-го августа. Этот же добрый французский полковник, выезжая отсюда в поместье Остров граф. Орловой-Чесменской, заходил проститься с хозяином Василием Ивановичем и подарил сыну его Ивану В. подзорную трубку. Вечная ему память!».
Текст этот составил не очень-то большой грамотей. Строго говоря, остается неясным, чьей супругой была Екатерина Никифоровна: Василия Ивановича Прохорова или, может быть, «доброго французского полковника» – так составлена длинная и неуклюжая фраза. Трудно подумать, что так мог написать какой-нибудь специально приглашенный человек. Он-то уж должен был быть пограмотнее. Наверное, это кто-то из самих почтенных толстосумов Прохоровых – скорее всего, Иван Васильевич, – кто еще запомнил бы, что получил в подарок подзорную трубку?
Так и чувствуется чванный и необразованный купец, вроде тех, что так блестяще описаны А. Н. Островским.
Но оставим грамматику и стилистику в стороне. Подумаем, о каких событиях рассказывает надпись, какое эти события имели значение для нашей родины и что из них заметили фабриканты Прохоровы, что думали и чувствовали они сами, что сочли нужным увековечить.
Памятная всей России осень 1812 года. Наполеон с армиями всей Европы («двунадесяти язык», как тогда говорили) вторгся в пределы нашей родины. Ему удалось даже занять на короткое время Москву. Древняя столица погибла в пламени. Но тем выше поднялась волна народного гнева. Не только регулярная армия боролась с неприятелем. С ним боролся весь народ, вся Россия. И гордый завоеватель, покоритель полумира, должен был бежать из Москвы, и это было началом конца его империи.
Московские фабриканты Василий и Иван Прохоровы были очевидцами этих событий. Но не участниками, как это явствует из самой надписи. Они не принимали никакого участия в общей борьбе народа против его поработителей. Единственной их заботой было сохранение собственного добра. И ради этого они, конечно, подружились с «французским гвардии полковником», который помог им (может быть, небезвозмездно) сохранить запасы продовольствия.
Может быть, все же эти московские буржуа, видя примеры героической борьбы народа, захотели увековечить какой-либо виденный ими подвиг, сохранить его для потомства?
Нет. Они считали единственным примечательным событием, достойным увековечения, то, что им удалось сохранить свои запасы продовольствия, да еще то, что один из них получил в то время маленький подарок – подзорную трубку. И конечно, они сочли нужным провозгласить вечную память французскому полковнику, а не русским воинам. Для этого была отлита мемориальная доска из чугуна и водружена на прохоровской фабрике в назидание потомству.
ПОДРУГА ДУМЫ ПРАЗДНОЙ

Слово «керамика» о многом говорит в наше время самым разным людям.
– Э, да сюда нужно новую керамику! – скажет с мрачным видом электромонтер, принимая в ремонт электроплитку или рефлектор.
– Я работаю в научно-исследовательском институте строй-керамики, – заявит с гордостью инженер-строитель или технолог.
– Нет ли у вас какой-нибудь интересной керамики? – спросит в магазине дама, желающая красиво и модно обставить квартиру.
– А какая в этом культурном слое керамика? – поинтересуется археолог, когда захочет выяснить, к какому времени относятся те или иные отложения и с какой культурой они могут быть связаны.
А ведь само это слово древние греки производили от слова «керамос», что на их языке обозначало просто «глина». «Керамика» – это значит «глиняное», изделия из глины.
И в самом деле, с тех пор как первобытный человек узнал, что глина, если ее обжечь, чудесным образом изменяет свои свойства, керамика уверенно вошла во все области нашей жизни. С древнейших времен и до наших дней почти повсюду в мире люди едят и пьют из керамической посуды, строят кирпичные дома, в ряде стран покрывают их черепицей, украшают изразцами и плитками, а в комнатах ставят керамические вазы и статуэтки; на заводах и в лабораториях мы можем увидеть керамические бутыли, стаканы, ступки, тигли, разного рода изоляторы и т. п.
И во все времена, у всех народов, знавших керамику, изделия были своеобразны, чем-то не похожи на керамику других народов. В них сказывались и особенности производства, и народные вкусы. Но и у одного и того же народа в разные времена керамика была разной. Развивалось производство, изменялась жизнь, и начинали делать другие предметы, обычно лучшего качества и более разнообразные. Сначала, например, лепили от руки грубые глиняные горшки, потом научились делать их на подставке, наращивая стенки кольцевыми жгутами, позднее изобрели гончарный круг и стали изготовлять разнообразные сосуды правильной формы, навивая глиняный жгут спиралью; наконец, научились вытягивать сосуд из одного цельного куска глины, покрывать его глазурью и т. д. Для этих усовершенствований понадобились столетия, а иногда и тысячелетия. Поэтому-то археологи и могут по керамике, как правило, уже давно разбитой и поломанной, определить время, которому она принадлежала. Поэтому они так интересуются керамикой. На любых раскопках вы увидите людей, которые, собрав обломки керамических изделий, тщательно зарисовывают их форму и орнамент, описывают их, подсчитывают, стараются восстановить древние формы сосудов и, если можно, склеить их из черепков.
В верхних горизонтах культурного слоя русских городов обычно находят много обломков небольших глиняных банок цилиндрической формы, немало и целых банок. Снаружи банка обычно покрыта глазурью синего цвета, изнутри – белой глазурью. Синие черепки хорошо видны в культурном слое и прямо-таки бросаются в глаза археологу. В тех же слоях попадаются монеты Елизаветы, Екатерины, Павла. Синие банки – своеобразная аптечная посуда второй половины XVIII века. В них приготовляли и продавали тогда различные мази, чаще всего – помаду. У городских модниц спрос на помаду был, по-видимому, очень велик, и едва ли не в каждом доме – дворянском, купеческом или мещанском – находились особы женского пола, пользовавшиеся синими баночками. В них хранили помаду, белила, румяна и тому подобные средства для покорения мужских сердец. Потому-то и находят обломки банок десятками и сотнями во всех старых городах. А в деревнях это редкая находка. И понятно: ведь только помещица или помещичья дочка могла позволить себе такую роскошь.
Трудно передать то чувство, с которым входишь в дом, где жил и работал твой любимый писатель. Вот прихожая, столовая, маленькая гостиная – «зальце», как ее называли, кабинет. И, по мере того как идешь из одной комнаты в другую, исчезают те годы, которые прошли со дня смерти писателя.
Кажется, что вот сейчас оживут эти комнаты, раздадутся голоса тех, кто здесь жил, шум их шагов – и в кабинет войдет небольшого роста, изящный, быстрый в движениях, незнакомый и бесконечно милый мне человек, которого я, конечно, никогда не видел и вместе с тем видел столько раз своим мысленным взором.
Войдет бодрый, хотя и несколько утомленный верховой прогулкой, бросит на диван хлыст, поскорее сядет за стол, подвинет к себе бумагу, нетерпеливо схватит вот это гусиное перо, потянется к чернильнице…
– Позвольте, откуда здесь помадная банка? – спросил я сотрудника музея, который любезно показывал мне дом в Михайловском.
– А разве вы не знаете, что Александр Сергеевич пользовался помадной банкой как чернильницей? – был ответ.
В кабинете, обставленном очень скромно, но все же во вкусе двадцатых годов XIX века, на небольшом рабочем столе стояла синяя помадная банка, которая была, безусловно, лет на тридцать – сорок старше всех окружающих вещей.
«Я девочкой бывала у Пушкина в имении и видела комнату, где он писал, – рассказывала впоследствии соседка Пушкина Екатерина Ивановна Осипова. – Комнатка Александра Сергеевича была маленькая, жалкая. Стояли в ней всего-навсего простая кровать деревянная с двумя подушками… а стол был ломберный (какие в ту пору употреблялись для игры в карты). На нем он и писал, и не из чернильницы, а из помадной банки».
Так вот она какая была, «подруга думы праздной»! Вот к кому обращал поэт исполненные нежности строки:
Подруга думы праздной,
Чернильница моя.
Мой век разнообразный
Тобой украсил я…
Под сенью хаты скромной
В часы печали томной
Была ты предо мной
С лампадой и мечтой.
В минуты вдохновенья
К тебе я прибегал
И музу призывал
На пир воображенья…
Он писал, что перо находит здесь
Концы моих стихов
И верность выраженья,
То звуков или слов
Нежданное стеченье,
То едкой шутки соль,
То правды слог суровый.
То странность рифмы новой,
Неслыханной дотоль.
С глупцов сорвав одежду,
Я весело клеймил
Зоила и невежду
Пятном твоих чернил,
Но их не разводил
Ни тайной злости пеной,
Ни ядом клеветы.
И сердца простоты
Ни лестью, ни изменой
Не замарала ты.
…Пока златые годы
В забвеньи трачу я.
Со мною неразлучно
Живи благополучно,
Наперсница моя.
Стихи как будто не предназначались для печати. Во всяком случае, они не увидели света при жизни автора. То был дар щедрого сердца поэта.
Да, у этой вещи едва ли не самая завидная судьба из всех судеб вещей, описанных в этой книге.
Сначала она была обычной банкой, которую сделал гончар, а аптекарь наполнил каким-то косметическим снадобьем. Впрочем, не исключена возможность, что сама красавица Надежда Осиповна Пушкина набирала из нее помаду своим смуглым пальчиком. Ведь в царствование Павла она уже блистала в свете. А потом забытая банка валялась где-нибудь в доме, пока не полюбилась сыну Александру, который и сделал ее участницей своего вдохновенного творчества.


