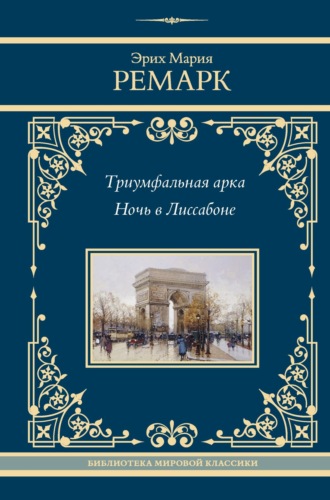
Эрих Мария Ремарк
Триумфальная арка. Ночь в Лиссабоне
12
– Ногу отрезали? – спросил Жанно.
Его бескровное, осунувшееся личико цветом напоминало серую, замшелую побелку старой стены. Веснушки выделялись на нем резко и вчуже, словно капли разбрызганной краски. Обрубок ноги был упрятан в проволочный каркас, выступавший под одеялом.
– Боли есть? – спросил Равич.
– Да. В ноге. Нога болит очень. Я уже сестру спрашивал. Но эта старая карга ничего не говорит.
– Ногу мы тебе ампутировали, – сообщил Равич.
– Выше колена или ниже?
– Сантиметров на десять выше. Колено раздроблено начисто, его было не спасти.
– Это хорошо, – задумчиво сказал Жанно. – Это процентов на десять повышает страховку. Очень хорошо. Протез – он и есть протез. Выше колена, ниже колена, один черт. Зато пятнадцать процентов прибавки каждый месяц в карман положить можно. – Он задумался. – Матери лучше пока не говорите. С этой клеткой ей под одеялом все равно не видно.
– Мы ей не скажем, Жанно.
– Страховка должна быть пожизненная. Вроде как пенсия. Ведь так, доктор?
– Думаю, да.
Землистое лицо неожиданно расплылось в злорадной ухмылке.
– То-то они очумеют! Мне ведь только тринадцать. Долго же им платить придется. Вы уже знаете, какая это страховая компания?
– Пока нет. Но нам известен номер машины. Ты же его запомнил. Из полиции уже приходили. Хотят тебя допросить. Но утром ты еще спал. Сегодня вечером опять придут.
Жанно о чем-то задумался.
– Свидетели, – произнес он затем. – Важно, чтобы у нас были свидетели. Они у нас есть?
– По-моему, твоя мать записала два адреса. Я видел листок у нее в руках.
Мальчишка встревожился.
– Она же потеряет. Если уже не потеряла. Старость, сами знаете. Где она сейчас?
– Твоя мать всю ночь около тебя просидела. Только под утро мы уговорили ее домой пойти. Она скоро придет.
– Будем надеяться, она их не потеряла. Полиция… – Он слабо махнул своей тощей ручонкой. – Все жулье. Наверняка заодно со страховщиками. Но если свидетели надежные… Когда она обещала прийти?
– Скоро. Ты насчет этого не волнуйся. Все устроится.
Жанно пожевал губами, что-то прикидывая.
– Иногда они предлагают все сразу выплатить. Вроде как отступные. Вместо пенсии. Мы бы тогда свою лавку могли открыть. На пару, мать и я.
– Ты лучше сейчас отдохни, – предложил Равич. – Еще успеешь все обдумать.
Мальчишка затряс головой.
– Нет, правда, – не отступался Равич. – У тебя должна быть ясная голова, когда полиция придет.
– И то верно. Так что мне делать?
– Спать.
– Но тогда…
– Мы тебя разбудим…
– Красный свет… Это точно был красный.
– Конечно. А теперь постарайся заснуть. Если что понадобится, вот звонок.
– Доктор…
Равич обернулся.
– Если дело выгорит… – Сморщенное, почти стариковское лицо мальчишки тонуло в подушке, но слабая тень плутоватой улыбки играла на нем. – Везет же кому-то в жизни, а?
Вечер выдался слякотный, но теплый. Рваные облака низко тянулись над городом. На тротуаре перед рестораном «Фуке» пылали жаром круглые коксовые печурки. Между ними выставили несколько столиков и стулья. За одним уже сидел Морозов и призывно махал Равичу.
– Иди сюда, выпьем!
Равич подсел к нему.
– Мы слишком много сидим в помещениях, – начал Морозов. – Ты не находишь?
– Только не ты. Ты же круглые сутки на улице торчишь перед своей «Шехерезадой».
– Опять ты со своей скудоумной логикой, школяр несчастный. Да, вечерами я, если угодно, ходячая дверь «Шехерезады», но уж никак не человек на свежем воздухе. Говорю тебе: мы слишком много сидим в помещениях. Мы в помещениях думаем. В помещениях живем. В помещениях впадаем в отчаяние. Вот скажи: разве на вольном воздухе можно впасть в отчаяние?
– Еще как, – буркнул Равич.
– Но только оттого, что мы слишком много живем в помещениях. А ежели ты к свежему воздуху привык – никогда. Да и отчаиваться на лоне природы куда сподручней, чем в квартире или на кухне. К тому же душевней как-то. И не возражай! Страсть вечно возражать – признак узости западноевропейского ума и вообще заката Европы. Что за манера вечно доказывать свою правоту? У меня сегодня свободный вечер, и я хочу пожить настоящей жизнью. Мы, кстати, слишком часто пьем в помещениях.
– И писаем тоже.
– Оставь свою дурацкую иронию при себе. Данности бытия грубы и тривиальны. Только наша фантазия дарует им подлинную жизнь. Только она превращает унылые жердины для просушки белья во флагштоки наших грез. Я прав?
– Нет.
– Разумеется, нет. Да и не больно хотелось.
– Конечно, ты прав.
– Вот и ладно, братишка. Мы и спим слишком много в помещениях. Мы превращаемся в мебель. Каменные дома переломили нам хребет. Мы теперь ходячие диваны, ночные столики, несгораемые шкафы, строчки в договорах аренды и платежной ведомости, мы теперь ходячие кастрюли и ватерклозеты.
– Правильно. А еще – ходячие партийные директивы, военные заводы, сумасшедшие дома и приюты для слепых.
– Что ты все время меня перебиваешь, маньяк со скальпелем! Пей, молчи и живи в свое удовольствие! Ты только глянь, во что мы превратились! Если память мне не изменяет, только у греков были боги пития и веселья – Вакх и Дионис. А у нас вместо этого Фрейд, комплекс неполноценности и психоанализ, а еще боязнь искренних слов в любви и половодье громких слов в политике. Жалкое племя! – Морозов подмигнул.
Равич подмигнул в ответ.
– Жалкий жизнелюб, старый циник-мечтатель!
Морозов ухмыльнулся:
– Зато ты у нас герой-романтик без мечты, на короткий миг мироздания обретший имя Равич.
– Но на очень короткий. Если по именам считать, это уже моя третья жизнь. Что за водка у тебя? Польская?
– Балтийская. Из Риги. Лучше не бывает. Плесни себе еще, и давай посидим спокойно, глядя на лучшую в мире улицу, благословляя этот дивный вечер и поплевывая в морду отчаянию.
Пламя в коксовых печурках уютно потрескивало. Уличный музыкант со скрипочкой встал на краю тротуара и заиграл «Auprе́s de ma blonde»16. Прохожие его толкали, задевали инструмент. Смычок соскальзывал, но скрипач невозмутимо играл дальше, никого вокруг не замечая. Скрипка заунывно стонала. Казалось, она мерзнет. Между столиками прохаживались два марокканца, предлагая посетителям аляповатые ковры искусственного шелка.
Мимо пробегали мальчишки-газетчики с вечерними выпусками. Морозов купил «Пари суар» и «Энтрансижан». Он проглядел заголовки и брезгливо отодвинул газеты в сторону.
– Фальшивомонетчики, – буркнул он. – Ты не замечал, что мы живем в век фальшивок?
– Нет. Мне-то казалось, мы живем в век консервов.
– Консервов? В каком смысле?
Равич кивнул на газеты.
– Думать больше не нужно. Для тебя все заранее обдумано, разжевано, пережито. Консервы. Только вскрыть. Поставляются на дом трижды в сутки. И не надо больше ничего самому разводить и выращивать, готовить на огне вопросов, стремлений и сомнений. Консервы. – Он ухмыльнулся. – Нам нелегко живется, Борис. Зато дешево.
– Мы живем среди фальшивок. – Для наглядности Морозов приподнял газеты. – Ты только посмотри на это. Они строят военные заводы во имя мира; концентрационные лагеря во имя правды; в тогу справедливости у них рядятся партийные распри; политики, эти бандиты, у них спасители человечества; свобода – только громкое слово, ширма, чтобы прикрыть жажду власти. Все липа! Умственная туфта! Пропагандистские враки! Макиавелли доморощенные! Идеалисты подзаборные! Ну хоть бы словечко правды! – Он скомкал газеты и сбросил их со стола.
– Мы и газет слишком много читаем в помещениях, – поддел его Равич.
Морозов рассмеялся:
– Точно! На свежем воздухе ими хотя бы огонь…
Он осекся. Равича рядом не было. Морозов услышал, как тот вскочил, а теперь успел заметить, как он проталкивается сквозь толпу в направлении проспекта Георга Пятого.
Морозов замешкался лишь на секунду. Потом вынул из кармана деньги, бросил их в блюдечко, что служило подставкой для рюмки, и кинулся вдогонку за Равичем. Он не понял, что стряслось, но поспешил вслед за Равичем на всякий случай, если тому понадобится помощь. Хотя полиции вроде не видно. И непохоже, чтобы Равич убегал от частного детектива. Народу на улице полно. Тем лучше, подумал Морозов. Если его, чего доброго, опознал полицейский, легче ускользнуть. Равича он снова углядел уже только на проспекте. Как раз переключили светофор, и скопище машин, дожидавшихся зеленого, с ревом ринулось вперед. Не обращая на них внимания, Равич, словно лунатик, пытался перейти улицу. Он чуть было не угодил под такси. Водитель обматерил его на чем свет стоит. Морозов едва успел ухватить Равича за рукав и оттащить обратно.
– Ты с ума сошел? – заорал он. – Тебе что, жить надоело? Что с тобой?
Равич не отвечал. Он не отрываясь смотрел на другую сторону улицы.
Машины шли сплошным потоком. Одна за одной, в четыре ряда. Не проскочишь. Равич стоял на краю тротуара, весь подавшись вперед и не сводя глаз с противоположной стороны.
Морозов легонько его встряхнул.
– В чем дело? Полиция?
– Нет. – Равич не отрывал взгляда от мелькающих авто.
– Тогда что? Да скажи же!
– Хааке.
– Что? – Глаза Морозова хищно прищурились. – Как выглядит? Скорей!
– Серое пальто…
Пронзительная трель полицейского свистка донеслась откуда-то с середины Елисейских Полей – регулировщик перекрыл движение. Равич кинулся на проезжую часть, лавируя между последними машинами. Темно-серое пальто – это все, что он успел запомнить. Он перебежал проспект Георга Пятого и улицу Бассано. Откуда вдруг столько серых пальто? Чертыхаясь, он пробивался вперед как можно скорее. На перекрестке с улицей Галилея, слава богу, движение было перекрыто. Он перешел на другую сторону и, расталкивая прохожих, метнулся дальше. Добежав до Пресбурской, он проскочил перекресток и тут замер, словно наткнувшись на стену: перед ним раскинулась площадь Звезды, громадная, кишащая машинами и людьми, что ручейками и потоками вливались в нее из соцветия окружающих улиц. Хана! Тут никого не найдешь.
Он повернул, медленно побрел по Елисейским Полям обратно, пристально вглядываясь в лица встречных прохожих, – но порыв и ярость вдруг угасли в нем. Как-то сразу накатила пустота. Опять он обознался – или Хааке опять от него ускользнул. Но как можно обознаться дважды? И чтобы человек второй раз как сквозь землю провалился? Но есть ведь еще и боковые улицы. Хааке мог свернуть. К примеру, вот сюда, на Пресбурскую. Машины, люди, опять машины, опять люди. Конец рабочего дня, час пик. Прочесывать нет смысла. Опять упустил.
– Пусто? – спросил подошедший навстречу Морозов.
Равич только головой покачал:
– Должно быть, мне опять призраки мерещатся.
– Но ты его узнал?
– По-моему, да. Так мне показалось. Но теперь… я вообще ни в чем не уверен.
Морозов глянул на него пристально.
– Есть много похожих лиц.
– Да, но есть и незабываемые.
Равич остановился.
– И что ты намерен предпринять? – спросил Морозов.
– Не знаю. А что тут сделаешь?
Морозов смотрел на поток прохожих.
– Вот черт! Ну надо же! И как назло, еще и время такое. Конец дня. Народу тьма.
– Да…
– И свету мало. Сумерки. Ты хоть как следует его разглядел?
Равич не ответил.
Морозов взял его под локоть.
– Послушай, – сказал он. – Рыскать сейчас по улицам все равно без толку. Пока по одной мечешься, только и будешь думать, что он на соседней. Пустое дело. Пойдем-ка лучше обратно в «Фуке». Там самое подходящее место. Сядешь там и смотри себе в оба, чем зря бегать. Если обратно пойдет, ты его не упустишь.
Они выбрали столик у самого края, откуда просматривалась вся улица. Сидели молча. Наконец Морозов спросил:
– Что будешь делать, если его увидишь? Ты уже решил?
Равич покачал головой.
– А ты подумай. Надо заранее знать. Тут нельзя полагаться на случай, а потом глупостей наделать, когда этот случай тебя же застигнет врасплох. Тем более в твоем положении. Ты же не хочешь годков на десять в тюрягу загреметь?
Равич поднял голову. Он не ответил. Просто молча смотрел на Морозова.
– Ну да, на твоем месте мне бы тоже было плевать, – рассудил Морозов. – На себя. Но мне-то на тебя не плевать. Вот сейчас что бы ты сделал, если бы там, на углу, его встретил?
– Не знаю, Борис. Честное слово, не знаю.
– При себе у тебя что-нибудь имеется?
– Нет.
– Но если ты просто так, не раздумывая, на него набросишься, вас мигом растащат. И ты очутишься в полицейском участке, а он скорей всего отделается парочкой фингалов, верно?
– Верно. – Равич, насупившись, смотрел себе под ноги.
Морозов задумался.
– Ты мог бы разве что попытаться столкнуть его под машину. На каком-нибудь перекрестке. Но это ведь не наверняка. И тогда он скорей всего отделается парочкой шрамов.
– Не стану я его под машину пихать. – Равич все еще глазел на мостовую.
– Да знаю я. Я бы тоже не стал.
Морозов помолчал.
– Равич, – сказал он затем. – Если это правда был он и если ты его снова встретишь, тебе нельзя допустить промашку. Ты это понимаешь? Второго шанса у тебя точно не будет.
– Я понимаю. – Равич все еще изучал брусчатку у себя под ногами.
– Если увидишь, иди за ним следом. Ничего больше. Выследи его. Узнай, где он живет. Этого достаточно. Все остальное успеешь обдумать после. Не спеши. И не наломай дров, слышишь?
– Да, – отрешенно вымолвил Равич, по-прежнему не поднимая глаз.
К их столику подходил торговец фисташками. Его сменил мальчишка с заводными мышами. Мыши послушно танцевали на мраморном полу и бодро взбирались по рукаву хозяина. Потом снова явился скрипач. На сей раз он играл «Parlez moi d’amour»и был в шляпе. Женщина с сифилитическим носом пыталась всучить им фиалки.
Морозов глянул на часы.
– Уже восемь, – объявил он. – Дальше ждать смысла нет, Равич. Мы уже третий час тут торчим. Он не придет. Во Франции в эту пору всякий нормальный человек ужинает.
– Иди себе, Борис. Тебе вообще со мной сидеть не обязательно.
– При чем тут это? Я буду сидеть с тобой, сколько захочешь. Но мне неохота видеть, как ты сводишь себя с ума. Говорю тебе: бессмысленно караулить здесь до скончания века. Шансы повстречаться с ним сейчас повсюду одинаковые. Больше того: в любом ресторане, в любом ночном клубе, в любом борделе они выше, чем здесь.
– Я знаю, Борис.
Огромная волосатая ручища Морозова легла ему на плечо.
– Равич, – сказал он, – послушай меня. Если тебе суждено его встретить, ты его встретишь. Если нет – можешь хоть сто лет его ждать, и все без толку. Да ты и сам прекрасно все понимаешь. Смотри в оба – везде и всюду. И будь начеку. А в остальном живи как жил и считай, что ты обмишурился. Может, кстати, оно и вправду так. Это единственное, что тебе остается. Иначе ты себя доконаешь. Я сам через такое прошел. Годков этак двадцать назад. В любом прохожем мне кто-то из убийц моего батюшки мерещился. Галлюцинации. – Он допил свою рюмку. – Чертовы галлюцинации. А теперь пошли. Пора где-нибудь поужинать.
– Ужинай без меня, Борис. Я попозже уйду.
– Ты правда хочешь тут остаться?
– Посижу еще немножко. А потом к себе в гостиницу. У меня еще дела.
Морозов глянул на него внимательно. Он-то знал, что Равичу в гостинице понадобилось. Но знал он и другое: тут уж ничего не поделаешь. Это только ему, Равичу, решать.
– Ладно, – сказал он. – Если что – я в «Матушке Мари». А потом в «Бубличках». Звони. Заходи. – Он вскинул свои кустистые брови. – И не рискуй зря. Не геройствуй. Не будь идиотом. Стреляй, только когда наверняка сможешь уйти. Это тебе не игрушки и не кино про гангстеров.
– Я знаю, Борис, не волнуйся.
Равич сходил в гостиницу «Интернасьональ» и отправился обратно. Но по дороге решил заглянуть в гостиницу «Милан». Посмотрел на часы. Полдевятого.
Может, Жоан еще у себя.
Она кинулась ему навстречу.
– Равич! – изумилась она. – Ты решил меня навестить?
– Ну да…
– Ты хоть помнишь, что ни разу здесь не был? С того вечера, когда ты меня отсюда забрал.
Он слабо улыбнулся:
– Это правда, Жоан. Мы с тобой ведем странную жизнь.
– Не говори. Прямо как кроты. Или летучие мыши. Или совы. Видимся только под покровом ночи.
Она расхаживала по комнате – широким шагом, гибкая, грациозная, порывистая. На ней был темно-синий, мужского покроя, домашний халат, туго перехваченный поясом. На кровати было разложено черное вечернее платье, приготовленное для «Шехерезады». Она была сейчас невероятно красива и столь же бесконечно далека.
– Тебе еще не пора идти, Жоан?
– Пока нет. Через полчасика. Самое любимое мое время. Перед отходом. Кофе, свободное время – все удовольствия. А вдобавок и ты пришел. И даже кальвадос имеется.
Она принесла бутылку. Он принял у нее из рук бутылку и, не вынув пробку, поставил на стол. Потом нежно взял ее за руки.
– Жоан, – начал он.
Ее глаза тотчас же угасли. Она стояла близко-близко.
– Говори сразу, что?
– О чем ты? Что такое?
– Не знаю, но что-то… Когда ты такой, всегда что-то случается. Ты из-за этого пришел?
Он чувствовал: ее руки отдаляются. Хотя она не двигалась, и руки не двигались тоже. И все-таки казалось, будто некая сила ее от него оттаскивает.
– Жоан, сегодня вечером не надо ко мне приходить. Сегодня, а может, и завтра, и еще пару дней.
– У тебя работа в клинике?
– Нет. Тут другое. Не могу говорить. Но ни с тобой, ни со мной, вообще с нами это никак не связано.
Она постояла молча.
– Ладно, – вымолвила она.
– Ты меня понимаешь?
– Нет. Но раз ты так говоришь, значит, так нужно.
– Ты не сердишься?
Она вскинула голову.
– Господи, Равич, – вздохнула она. – Ну как я могу на тебя сердиться?
Он поднял глаза. У него сжалось сердце. Жоан сказала лишь то, что хотела сказать, но, сама того не желая, ударила в самое уязвимое место. Он не особенно прислушивался к словам, которые она то нашептывала, то горячо лепетала ему по ночам, ведь под утро, едва серая мгла сумерек затягивает окна, слова забываются. Он знал: самозабвение, охватывавшее ее в такие часы, было именно забвением себя, но и забвением его тоже, и воспринимал его как любовный угар, как яркую вспышку страсти, не более. Но сейчас, словно летчик, в разрыве облаков сквозь прятки света и тени вдруг узревший землю, эти плывущие под ним четкие лоскуты зелени и бурой пашни, он впервые увидел нечто большее. В самозабвении он вдруг ощутил самоотдачу, в дурмане страсти – искренность глубокого чувства, в бездумном шелесте слов – преданность и доверие. Он-то ожидал как раз недоверия, подозрительности, расспросов, но только не этого. Истина, как всегда, обнажила себя не в громких словах, а в мелочах. Громкие слова – они подбивают на театральщину, а театральщина подбивает на ложь.
Гостиничный номер. Четыре стены. Парочка чемоданов, кровать, лампа, окно зияет пустотой ночи и чернотой прошлого – и это светлое лицо, эти серые глаза, высокие полукружия бровей, и золото дерзко взметнувшихся волос, – жизнь, сама жизнь, подвижная, струистая, распахнутая ему навстречу, как цветущий куст олеандра навстречу солнцу, – вот же она, стоит перед тобой, безмолвно, вся ожидание и вся призыв. Возьми меня! Держи меня! Разве он когда-то, давным-давно, не сказал ей: «Что ж, буду держать»?
Он подошел к двери.
– Спокойной ночи, Жоан.
– Спокойной ночи, Равич.
Он снова сидел перед кафе «Фуке». За тем же столиком, что и прежде. Сидел долго, за часом час все глубже погружаясь в черную пучину прошлого, где тускло светился лишь один-единственный огонек – надежда на отмщение.
Его схватили в августе тридцать третьего. Он две недели прятал у себя двоих друзей, которых разыскивало гестапо, а потом помог им бежать. Один из них еще в семнадцатом, под Биксхооте во Фландрии, спас ему жизнь, когда под прикрытием пулеметного огня вытащил его, истекающего кровью, с ничейной земли к своим, в окопы. Второй был еврейский писатель, давний его знакомец. Равича привели на допрос, главное, что их интересовало – куда эти двое бежали, на чьи имена у них документы и кто еще будет пособничать им в побеге. Допрашивал его Хааке. Едва очнувшись после первого обморока, Равич бросился на Хааке в надежде выхватить у него револьвер, а то и просто удавить голыми руками. Ну и вместо этого сам получил по голове, тут же провалившись в кровавое забытье. Конечно, это была глупость – что он мог один против четверых вооруженных громил? Потом три дня он то долго, бесконечно долго выныривал из забытья, то, ошпаренный несусветной болью, погружался в него снова – но, выплывая, всякий раз видел над собой холодную, невозмутимую ухмылку Хааке. Три дня одни и те же вопросы, три дня одни и те же муки в истерзанном теле, казалось, уже почти утратившем способность чувствовать боль. А потом, в конце третьего дня, привели Сибиллу. Хотя она вообще ничего не знала. Ей показали Равича – в уверенности, что она сразу расколется. Изысканное, избалованное создание, выросшее в роскоши и ни к чему другому не приученное, она вела беззаботную, шаловливую жизнь женщины-игрушки. Он-то ожидал, что она забьется в истерике и тут же сломается. Ничего подобного. Сибилла накинулась на палачей с руганью. Она смертельно их оскорбила. Смертельно для себя, она это знала. Неизменная ухмылка сползла с физиономии Хааке. Он прервал допрос. А на следующий день подробно разъяснил Равичу, что сделают с его приятельницей в женском концентрационном лагере, если он не признается. Равич молчал. Тогда Хааке разъяснил ему, что с ней сделают еще до лагеря. Равич все равно ни в чем не признался – да и не в чем было. Он тщетно пытался убедить Хааке, что эта женщина вообще ни при чем, она ничего знать не может. Сказал, что и знаком-то с ней скорее случайно. Что в его жизни она значила не больше изящной безделушки. Что уж ей-то он никогда бы ничего на свете не доверил и ни во что бы ее не втянул. И это была чистая правда. Хааке в ответ только ухмылялся. Три дня спустя Сибиллы не стало. Сказали, что повесилась в концлагере. На следующий день привели одного из беглецов – еврейского писателя. Равич его увидел, но вообще не узнал, даже по голосу. Однако понадобилась еще целая неделя допросов у Хааке, чтобы этот полутруп умер окончательно. Тогда и самого Равича отправили в концлагерь. Потом был госпиталь. Потом побег из госпиталя.
Заливая небо серебром, над Триумфальной аркой зависла луна. Фонари вдоль Елисейских Полей убегали вдаль, раскачиваясь на ветру. Их яркий свет дробился в рюмках на столе. Все как во сне – рюмки эти, эта лунища, эта ночь и этот час, навевающий даль и близь, словно все это уже когда-то было, в другой жизни, под другими звездами, на иной планете, – и сами эти воспоминания о годах минувших, канувших, ушедших на дно, столь живых и одновременно столь же мертвых, – эти воспоминания тоже как сон, фосфоресцируют в мозгу, сверкая окаменелостями слов, – а еще призрачнее, еще невероятней непостижимое чудо, что течет во мраке жил, неостановимо и неустанно, поддерживая температуру 36,7, чуть солоноватое на вкус, четыре литра тайны и круговращения, кровь, омывающая нервные узлы и то незримое, неведомо в какой пустоте подвешенное хранилище, именуемое памятью, где от года до года – бессчетно световых лет, и каждый как звезда, то светлый, то омраченный оспинами пятен, то кровавый, как Марс, что повис сейчас над улицей Берри, – необъятный небосвод воспоминаний, под которым сиюминутная злоба дня торопливо обделывает свои суетные делишки.
Зеленый огонек отмщения. Город, тихо мерцающий в позднем лунном свете под мерный, далекий гул автомобильных моторов. Цепочки домов, длинные, нескончаемые шеренги окон, за которыми, во всю длину улицы, клубки, связки и хитросплетения человеческих судеб. Биение миллионов сердец, человеческих сердец, непрестанное и неумолчное, как рокот бессчетноцилиндрового мотора, медленно, медленно ползущего по улице жизни, с каждым тактом на крохотный миллиметр все ближе к смерти.
Он встал. На Елисейских Полях было пусто. Кое-где на перекрестках еще слонялись последние шлюхи. Он двинулся куда глаза глядят, миновал Шаронскую, улицу Марбеф, Мариньянскую, добрел до Круглой площади и повернул обратно к Триумфальной арке. Перешагнул через цепи ограды и подошел вплотную к могиле Неизвестного солдата. Язычок голубого пламени из горелки лампады сиротливо трепетал во мраке сводов. Рядом лежал увядший венок. Равич пересек всю площадь Звезды и направился к бистро, возле которого ему впервые померещился Хааке. За столиками коротали время несколько таксистов. Он сел у окна, там же, где сидел в прошлый раз, и попросил кофе. Таксисты болтали о Гитлере. Гитлер им представлялся шутом гороховым, а если сунется на линию Мажино, ему вообще будет крышка. Равич неотрывно смотрел в окно. «Чего ради я тут сижу, – думал он. – С тем же успехом можно сидеть в любом другом парижском кабаке – шансы одинаковые». Он глянул на часы. Почти три. Хааке – если это и вправду был он – в такое время по улицам шататься не станет.
Мимо продефилировала очередная шлюха. Заглянула в освещенное окно и двинулась дальше. «Вот обратно пойдет – и я уйду», – сказал себе Равич. Шлюха вернулась. Но он не ушел. «Еще раз пройдет – и тогда уж точно», – твердо решил он. Тогда, значит, Хааке вообще нет в Париже. Шлюха показалась снова. Даже кивнула ему и прошла мимо. Он остался сидеть. Она вернулась еще раз. Он все равно не ушел.
Официант начал составлять стулья на столы. Таксисты расплатились и ушли. Официант выключил свет над барной стойкой. Зал погрузился в неприветливый полумрак. Равич оглянулся по сторонам.
– Счет! – бросил он.
На улице задул ветер и заметно похолодало. Облака плыли теперь выше и резвее. Он шел мимо гостиницы Жоан и на миг остановился. Во всех окнах темно, кроме одного, – там за занавесками брезжил свет ночника. Комната Жоан. Он знал: она боится, ненавидит входить в темную комнату. А свет оставила, потому что ей сегодня возвращаться сюда, а не к нему. Он еще раз взглянул на ее окно и недоуменно потупился. Какого черта он не захотел ее видеть? Воспоминание о Сибилле давно угасло, только память о ее смерти осталась.
А все прочее? Какое это имеет к ней отношение? Даже к нему – какое это имеет отношение даже к нему? Если он такой дурак, что охотится за привидениями, не в силах совладать с ужимками памяти, с клубком воспоминаний, с мрачными судорогами прошлого в собственном мозгу, что под влиянием случайной встречи, разительного сходства снова разворошил в себе остывшие шлаки тех мертвых лет, если, потрафив собственной слабости, отомкнул один из смрадных склепов прошлого и опять дал волю едва залеченному неврозу, подвергая опасности все, что с таким трудом возводил в себе все эти годы, а вдобавок и единственного человека, по-настоящему близкого ему во всей этой текучке, – кто виноват? Какая связь между тем и этим? Забудь – разве сам он не внушал себе это снова и снова? Разве иначе смог бы он выжить? И где бы сейчас был?
Он ощутил, как тает свинцовая тяжесть во всем теле. Перевел дух. Ветер все новыми порывами тревожил сон улиц. Он снова глянул на освещенное окно. Там живет некто, кому он небезразличен, кто, завидев его, меняется в лице, – и такого человека он готов был принести в жертву миражной иллюзии, своей заносчивой, нетерпеливой и эфемерной надежде на отмщение…
Чего он хочет? Зачем сопротивляется? Для какой такой цели себя бережет? Жизнь сама идет к нему в руки, а он, видите ли, имеет возражения. И не потому, что предложенного мало, – наоборот, слишком много. Неужто надо было пережить в памяти кровавую грозу прошлого, чтобы постигнуть такую простую вещь? Он передернул плечами. Сердце, подумалось ему. Сердце! Как оно раскрывается! Как его все трогает! Окно, подумалось ему, это окно, одиноко не гаснущее в ночи, отсвет другой жизни, безоглядно бросившейся ему на грудь, до того доверчивой и открытой, что и сам он готов раскрыться. Пламя желания, высверки нежности, вспыхивающие багряные зарницы крови, ты это знаешь, ты все изведал, изведал до такой степени сполна, что неколебимо уверился – уж тебя-то это чарующее, ослепительное смятение никогда не захлестнет, – и вдруг ты стоишь среди ночи под окнами третьеразрядной гостинички, а оно вот оно, клубится, как марево над асфальтом, неведомо как занесенное сюда будто с другого края земли, просочившись дыханием тропической весны с лазурных кокосовых островов сквозь толщи океана, коралловые заросли, мрак и огонь подземных недр и вынырнув здесь, в Париже, на заштатной улочке Понселе, ароматом мимозы и мальвы, теснит эту ночь, полную жажды мести и прошлого, таинственным, неоспоримым и необоримым самораскрытием живого чувства…
В «Шехерезаде» было полно. Жоан сидела за столиком в компании каких-то людей. Равича она увидела сразу, едва тот застыл в дверях. Зал тонул в волнах музыки и табачного дыма. Сказав что-то своим спутникам, Жоан стремительно подошла к нему.
– Равич…
– Ты еще занята?
– А что такое?
– Хотел тебя увести.
– Но ты же говорил…
– Забудь. У тебя еще здесь дела?
– Нет. Только вот им скажу, что мне уйти надо.
– Давай скорей. Я на улице жду, в такси.
– Хорошо. – Она остановилась. – Равич?
Он оглянулся.
– Ты только из-за меня сюда приехал?
Он на секунду смешался.
– Да, – тихо вымолвил он прямо в это лицо, трепетно раскрытое ему навстречу. – Да, Жоан. Из-за тебя. Только из-за тебя.
Она резко повернулась.
– Тогда пошли, – выдохнула она. – Уйдем скорее! А те… какое нам до них дело…
Такси ехало по Льежской.
– Так в чем было дело, Равич?
– Ни в чем.
– Я так боялась.
– Забудь. Не о чем говорить.
Жоан взглянула на него.
– Я думала, ты вообще уже не вернешься.
Он склонился над ней. И почувствовал, что ее всю трясет.
– Жоан, – сказал он, – не думай ни о чем и ни о чем не спрашивай. Видишь эти фонари, видишь эти сотни светящихся вывесок? Мы живем в погибающем столетии, а этот город бурлит жизнью. Мы с тобой оторваны ото всего, и у нас ничего нет, кроме наших сердец. Считай, что я побывал на Луне, а теперь вернулся, и ты здесь, и ты – это сама жизнь. Не спрашивай больше ни о чем. В твоих волосах больше тайны, чем в тысяче вопросов. Здесь, сейчас нас ждет ночь, всего несколько часов и целая вечность, покуда за окном не загрохочет утро. То, что люди любят друг друга – понимаешь, это все; это чудо и это простейшая вещь на свете, я это понял, прочувствовал сегодня, когда ночь заблагоухала цветением весны, когда ветер принес аромат земляники. Без любви ты никто, ты всего лишь мертвец в отпуске, так, имя, фамилия и парочка дат для надгробия, с тем же успехом можно и сразу умереть…
Свет фонарей скользил по окнам машины, как луч прожектора по стенам корабельной каюты. На бледном лице глаза Жоан то светлели, то казались совсем черными.
– Мы не умрем, – прошептала она у Равича в руках.
– Нет. Мы – нет. Не сейчас. Только время. Это проклятое время. Оно умирает всегда. А мы живем. Мы живем вечно. Ты просыпаешься – и у тебя весна, засыпаешь осенью, а в промежутках у тебя тысячу раз зима и лето, и если любить друг друга по-настоящему, мы будем вечны и нетленны, как биение сердца, как ветер и дождь, а это немало. Мы выигрываем дни, а теряем годы, только что нам до того и какая в том печаль? Нынешний час – это и есть жизнь. Мгновение – оно ближе всего к вечности, твои глаза мерцают, сквозь бесконечность веков сочится звездная пыль, дряхлеют боги, но свежи и молоды твои губы, тайна трепещет меж нами, только Ты и Я, зов и отклик, из сумерек и первоистоков, из упоения всех любящих, выжимкой из всех стонов страсти обратившись в любовную бурю, пройдя бесконечный путь от амебы до Руфи и Эсфири, Елены и Аспазии, до лазурных мадонн в церквях, от пресмыкания в древнейшем сне до волхования в тебе и мне.







