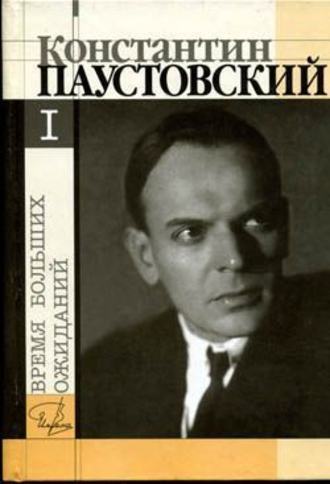
Константин Паустовский
Время больших ожиданий
Имя Бабеля долго оставалось под запретом, а писателям в нашей стране, как и другим деятелям культуры, приходилось выражать свои мысли с оглядкой на указующий перст. Не миновала эта участь и Паустовского, хотя он всячески старался писать так, чтобы не обделить ни себя, ни читателей. Не случайно он намеревался заключительную часть своей автобиографической повести назвать не «Книгой скитаний», а – «На медленном огне». Но ясно, что такое название не прошло бы через цензуру.
Время работы отца над воспоминаниями о Бабеле как раз совпало с его выступлением в 1956 году на обсуждении романа В. Дудинцева «Не хлебом единым». По существу это было первое открытое писательское слово о моральном облике партократии, порожденной большевизмом. Говоря о жертвах тоталитарного режима, отец упоминает и Бабеля. Отождествляя типичного партократа-номенклатурщика с образом героя романа – Дроздова, отец сказал: «…Если бы не было дроздовых, то сейчас с нами, в нашей среде жили и работали бы такие талантливые люди искусства, как Мейерхольд, как Артем Веселый, как Бабель и многие другие. Их уничтожили Дроздовы. Уничтожили во имя собственного вонючего благополучия».
В конце своего предисловия к «Времени больших ожиданий» мне хочется сказать, что замысел автобиографической «Повести о жизни» созрел у отца уже в середине 30-х годов. В журнале «Детская литература» (1937, № 22) была опубликована его статья «Несколько слов о себе». По сути это был ответ на анкетный вопрос журнальной рубрики «Трибуна работников детской книги: писатели о себе». Его статья явилась своеобразной канвой будущих книг «Повести о жизни». Об одесском периоде своей жизни К. Г. Паустовский написал в ней:
«Пришла революция, газетная работа и новые скитания, вызванные гражданской войной. Киев, Полесье, бои с бандами, Одесса – ее пустой порт, ее пустые в то время улицы, где буйно разрасталась акация, работа в газете „Моряк“. Это была необыкновенная газета. В ней было около ста сотрудников – писателей, поэтов, художников, лоцманов, матросов, капитанов и грузчиков. Гонорар платили хлебом и табаком. Крепкий черноморский смех гремел в редакции с утра до ночи. Был голод, но люди смеялись, – будущее шумело вокруг, каждый день был талантлив и свеж Багрицкий приносил в редакцию свои стихи и пел их своим хриплым взволнованным голосом.
В Одессе я впервые начал писать. Тогда в Одессе начали писать Бабель и Катаев, Ильф и Олеша, Багрицкий и Гехт. Я никогда не забуду работу Бабеля над словом. Я наблюдал ее и понял, что каждое слово заключает в себе великие опасности и вместе с тем великие возможности для писателя. Для точного владения словом нужен беспощадный вкус, строгость.
Из Одессы я уехал на юг на старом пароходе, груженном минами. Девять дней нас мотало в открытом море ледяным штормом. Мы погибали и взывали о помощи по радио, но никто не мог нам помочь – весь флот был уведен белыми за границу».
Среди бумаг отца я нашел еще один любопытный листок, который, как и предыдущая статья в «Детской литературе», проливает свет над замыслом его автобиографического произведения, в том числе и об одесской жизни. Этот листок можно рассматривать как своего рода план «Рассказа ассоциаций». Есть у рассказа и подзаголовок: «Опыт автобиографии». Первая строка плана начинается с перечисления: «Киев Гимназия каштаны [нрзб.] Вертинский». Одесский ряд представляет собой следующую цепочку записей: «Гюль-Назаров Одесса [нрзб.] с Лифшицем [нрзб.] перед морем Дом Ландесмана бегство белых Опродкомгуб Юшкевич Моряк Кривоходкин чисто в порту Лукагер (эта фамилия вначале записана, а затем зачеркнута) берега Аркадии на 16 станции [нрзб.] голод истории…»
И еще о замысле. Меня не покидает удивление, что жизнь героя в Одессе разбита писателем как бы на два периода. Первый описан в заключительных главах повести «Начало неведомого века», после того, как Паустовский прибыл в Одессу в начале ноября 1919 года. Тогда же он знакомится с журналистом Александром Гюль-Назарьянцем (в повести -Назаров). Второй период, собственно, и составляет целиком книгу «Времени больших ожиданий» с включением в нее в конце двух «севастопольских» глав. Такое деление, в общем-то, естественно: первые события проходят в основном до советской власти, а «Время…» – при ее становлении. И все же если новый, молодой читатель, впервые соприкасающийся с творчеством Константина Паустовского, возьмет в руки книгу «Время больших ожиданий» – отдельно как таковую, – то его впечатление будет несколько обеднено.
Поэтому при издании повести «Время больших ожиданий» отдельной книжкой необходимо включить в нее одесские фрагменты глав «О фиринке, водопроводе и мелких опасностях», «Последняя шрапнель» – из повести «Начало неведомого века». Такой подход вполне оправдан, так как при этом не нарушается авторский замысел писателя и в то же время читатель не будет обделен и обеднен в своих впечатлениях.
Теперь последнее. При публикации шести книг «Повести о жизни» в двухтомнике Гослитиздата в 1962 году Константин Паустовский поместил короткое предисловие «Несколько слов», фрагментом из которого мне и хотелось бы закончить свое затянувшееся повествование:
«Недавно я перелистывал собрание сочинений Томаса Манна и в одной из его статей о писательском труде прочел такие слова:
Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим, мы создали нечто сверхличное… Вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве».
Эти слова следовало бы поставить эпиграфом к большинству автобиографических книг.
Фрагменты глав из повести «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА»
Из главы «О ФИРИНКЕ, ВОДОПРОВОДЕ И МЕЛКИХ ОПАСНОСТЯХ»
…Света в Одессе было мало, фонари зажигали поздно, а то и совсем не зажигали, и, бывало, по тихим осенним вечерам один только багровый жар жаровен освещал тротуары. Этот свет снизу придавал улицам несколько феерический вид.
…Найти жилье в Одессе было очень трудно, но нам повезло. На Ланжероне, на маленькой и пустынной Черноморской улице, тянувшейся по обрыву над морем, был частный санаторий для нервнобольных доктора Ландесмана. Неустойчивая и пестрая жизнь тех лет вызывала бурный рост нервных болезней, но ни у кого не было денег, чтобы лечиться, особенно в таком дорогом санатории, как у Ландесмана. Поэтому санаторий был закрыт.
Назаров встретил в Одессе знакомую женщину – невропатолога из Москвы, – и она устроила нас в этот пустой санаторий. Ландесман -весьма величественный и учтивый человек – отвел нам две небольшие белые палаты с условием, что мы будем охранять санаторий. Мы должны были следить, чтобы не рубили на дрова небольшой сад около санатория и не растаскивали по частям самый дом.
Отопление в санатории не работало, комната у меня была очень высокая, с широкими окнами, и потому маленькая железная «буржуйка», как ни старалась, никогда не могла нагреть эту комнату. Дров почти не было. Изредка я покупал акациевые дрова. Продавали их на фунты. Я мог осилить не больше трех-четырех фунтов, – не было денег.
…Я опять работал корректором в газете (название ее я позабыл) [1]. Издавал эту газету академик Овсянико-Куликовский. Работал я через два дня на третий и получал очень мало «колоколов» – так назывались тогда деникинские деньги с изображением Царь-колокола в Кремле.
Мне нравилась жизнь в гулком особняке над морем, нравилось полное одиночество и даже как будто зернистый, пахнущий морской солью холодный воздух в его стенах.
…Тогда в Одессе мной завладела мысль о том, чтобы провести всю жизнь в странствиях, чтобы сколько бы мне ни было отпущено жизни -много или мало, – но прожить ее с ощущением постоянной новизны, чтобы написать об этом много книг со всей силой, на какую я способен, и подарить эти книги, подарить всю землю со всеми ее заманчивыми уголками – юной, но еще не встреченной женщине, чье присутствие превратит мои дни и годы в сплошной поток радости и боли, в счастье сдержанных слез перед красотой мира – того мира, каким он должен быть всегда, но каким редко бывает в действительности.
…После каждого прорыва на фронте Одесса заполнялась дезертирами. Кабаки гремели до утра. Там визжали женщины, звенела разбитая посуда и гремели выстрелы, – побежденные сводили счеты между собой, стараясь выяснить, кто из них предал и погубил Россию. Белые черепа на рукавах у офицеров из «батальонов смерти» пожелтели от грязи и жира и в таком виде уже никого не пугали.
…Три тысячи бандитов с Молдаванки во главе с Мишей Япончиком грабили лениво, вразвалку, неохотно. Бандиты были пресыщены прошлыми баснословными грабежами. Им хотелось отдохнуть от своего хлопотливого дела. Они больше острили, чем грабили, кутили по ресторанам, пели, плача, душераздирающую песенку о смерти Веры Холодной:
Бедный Рунич горько плачет –
Вера лежит в гробу.
Рунич был партнером Веры Холодной. По тексту песни, Вера лежала в гробу и просила Рунича:
Голубыми васильками
Грудь мою обвей
И горючими слезами
Грудь мою облей.
Однажды я шел вечером из типографии к себе на Черноморскую с петроградским журналистом Яковом Лифшицем. Бездомный Лифшиц стал третьим жильцом санатория Ландесмана.
У маленького, неспокойного и взъерошенного Лифшица была кличка «Яша на колесах». Объяснялась эта кличка необыкновенной походкой Лифшица: он на ходу делал каждой ступней такое же качательное движение, какое, например, совершает пресс-папье, промокая чернила на бумаге. Поэтому казалось, что Яша не идет, а быстро катится. И ботинки у него походили на пресс-папье или на часть колеса, – подметки у них были согнуты выпуклой дугой.
Мы шли с «Яшей на колесах» на Черноморскую, выбирая тихие переулки, чтобы поменьше встречаться с патрулями. В одном из переулков из подъезда вышли два молодых человека в одинаковых жокейских кепках. Они остановились на тротуаре и закурили. Мы шли им навстречу, но молодые люди не двигались. Казалось, они поджидали нас.
– Бандиты, – сказал я тихо Яше, но он только недоверчиво фыркнул и пробормотал:
– Глупости! Бандиты не работают в таких безлюдных переулках. Надо их проверить.
– Как?
– Подойти и заговорить с ними. И все будет ясно.
У Яши была житейская теория – всегда идти напролом, в лоб опасности. Он уверял, что благодаря этой теории счастливо избежал многих неприятностей.
– О чем же говорить? – спросил я с недоумением.
– Все равно. Это не имеет значения.
Яша быстро подошел к молодым людям и совершенно неожиданно спросил:
– Скажите, пожалуйста, как нам пройти на Черноморскую улицу?
Молодые люди очень вежливо начали объяснять Яше, как пройти
на Черноморскую. Путь был сложный, и объясняли они долго, тем более что Яша все время их переспрашивал.
Яша поблагодарил молодых людей, и мы пошли дальше.
– Вот видите, – сказал с торжеством Яша. – Мой метод действует безошибочно.
Я согласился с этим, но в ту же минуту молодые люди окликнули нас. Мы остановились. Они подошли, и один из них сказал:
– Вы, конечно, знаете, что по пути на Черноморскую около Александровского парка со всех прохожих снимают пальто.
– Ну уж и со всех! – весело ответил Яша.
– Почти со всех, – поправился молодой человек и улыбнулся. -С вас пальто снимут. Это безусловно. Поэтому лучше снимите его сами здесь. Вам же совершенно все равно, где вас разденут – в Александровском парке или в Канатном переулке. Как вы думаете?
– Да, пожалуй… – растерянно ответил Яша.
– Так вот, будьте настолько любезны.
Молодой человек вынул из рукава финку. Я еще не видел таких длинных, красивых и, очевидно, острых, как бритва, финок. Клинок финки висел в воздухе на уровне Яшиного живота.
– Если вас это не затруднит, – сказал молодой человек с финкой, -то выньте из кармана пальто все, что вам нужно, кроме денег. Так! Благодарю вас! Спокойной ночи. Нет, нет, не беспокойтесь, – обернулся он ко мне, – нам хватит и одного пальто. Жадность – мать всех пороков. Идите спокойно, но не оглядывайтесь. С оглядкой, знаете, ничего серьезного не добьешься в жизни.
Мы ушли, даже не очень обескураженные этим случаем. Яша всю дорогу ждал, когда же и с меня снимут пальто, но этого не случилось. И Яша вдруг помрачнел и надулся на меня, будто я мог знать, почему сняли пальто только с него, или был наводчиком и работал «в доле» с бандитами.
…Вообще Яше сильно не везло. Назаров уверял, что Яша принадлежит к тому редкому типу людей, которые приносят неудачу…
…Я только посмеялся над Назаровым, за что вскоре и был жестоко наказан.
Чтобы точно представить себе то, что случилось, надо сказать несколько слов о Стурдзовском переулке. Путь на Черноморскую шел по этому переулку. Его никак нельзя было обойти.
Этот переулок, названный именем известного во времена Пушкина иезуита Стурдзы, всегда вызывал у нас ощущение скрытой опасности. Может быть потому, что на него выходили только каменные стены обширных садов. С другой стороны сады обрывались к морю. Эти глухие стены не давали никакой защиты, никакого укрытия. В то время у всех выработалась привычка, идя по улице, заранее намечать себе ближайшее укрытие на случай стрельбы или встречи с пьяным патрулем.
В Стурдзовском переулке не было ни одного укрытия, если не считать единственного двухэтажного дома с узкой темной подворотней. В доме никто не жил. За выломанными оконными рамами разрастался бурьян.
Я не внял предостережению Назарова и однажды поздним осенним вечером опять возвращался домой с Яшей.
Ходить вечером по улицам можно было, только строго соблюдая ряд неписаных законов. Нельзя было курить, разговаривать, кашлять и стучать каблуками по тротуару. Идти, вернее пробираться, надо было под стенами или в тени от деревьев. Каждые сорок или пятьдесят шагов следовало останавливаться, прислушиваться и вглядываться в темноту. На перекрестках полагалось осмотреть пересекающую улицу и переходить перекресток очень быстро.
Мы благополучно дошли до Стурдзовского переулка, остановились, выглянув из-за угла, и долго прислушивались и всматривались в его кромешную темноту. С одной стороны, темнота была спасительной: она скрывала нас. Но, с другой стороны, она была опасна тем, что мы могли наткнуться на засаду.
Все было тихо, так тихо, что мы слышали в глубине переулка слабый шум прибоя.
Мы крадучись пошли по переулку. Я сказал, что надо идти по той стороне, где подворотня, не доходя до нее остановиться, хорошо прислушаться, а затем быстро и беззвучно проскочить мимо подворотни. Расчет, по-моему, был математически точен. Если в подворотне есть люди, то они могут нас и не заметить. Если же мы будем идти по противоположной от подворотни стороне, то нас могут заметить еще издали. Я высчитал, что в последнем случае мы будем идти против опасной подворотни, или, вернее, будем на виду у людей, спрятавшихся в подворотне, в пять раз дольше. И, следовательно, будет в пять раз больше шансов, что нас заметят.
Но Яша опять начал шепотом разводить свою теорию, что всегда надо идти в лоб опасности. Я не спорил с ним, чтобы не подымать лишнего шума, и мы пошли по противоположной стороне от подворотни.
Яша считал про себя секунды. Мы знали, что от Стурдзовского переулка до санатория Ландесмана было семь минут ходьбы. В санатории за высокой оградой и железными воротами мы всегда чувствовали себя в полной безопасности. Особенно если не зажигали коптилок.
Когда мы проходили около подворотни, Яша споткнулся. Потом, когда мы вспоминали о происшествии в Стурдзовском переулке, Яша утверждал, что всегда, если хочешь сделать что-нибудь наилучшим образом, то обязательно сорвешься на пустяковине. Я же про себя думал, что всему виной была Яшина невыносимая походка. Но я молчал, чтобы не огорчать Яшу.
Как бы там ни было, но Яша споткнулся и от неожиданности, вместо того чтобы выругаться про себя, сказал внятным и растерянным голосом:
– Извиняюсь!
– Стой! – закричал из подворотни сиплый голос, и на нас упал режущий свет электрического фонарика. – Вынуть руки из карманов! Немедленно, матери вашей черт!
К нам подошли несколько вооруженных. Это был казачий патруль.
– Документы! – сказал тот же сиплый голос.
Я протянул свое удостоверение. Казак посветил на него, потом на меня.
– Пиндос, – определил он. – Скумбрия с лимончиком! Бери свою липу обратно.
Он отдал мне удостоверение и посветил на Яшу.
– А ты можешь не показывать, – сказал он, – сразу видать, что иерусалимский генерал. Ну ладно. Проходите!
Мы сделали несколько шагов.
– Стой! – вдруг истерически закричал тот же казак. – Ни с места!
Мы остановились.
– Чего стали! Сказано вам – проходи!
Мы снова пошли, но очень медленно, чтобы не выдавать свое волнение. Нервы были напряжены с такой силой, что спиной, всем телом я чувствовал, как казаки взводят затворы. Щелканья затворов я не слышал. Я понимал, что это – предсмертная игра кошки с мышью, что нас все равно убьют и что каждое мгновение может быть последним.
– Стой! Так вашу мать! – снова закричал казак. Остальные сдержанно засмеялись.
Мы снова остановились около стены. Я ее не видел в темноте, но я знал, что она сложена из грубого камня и на ней есть выступы и выбоины.
– Лезьте через стену, – сказал я шепотом Яше. – Одним рывком! Все равно конец!
Я был худой. Мне легко было быстро влезть на стену. Но Яша со своими ботинками-колесами чуть не сорвался. Я схватил его за руку и рванул. Мы перекинули ноги через стену и спрыгнули. Позади загрохотали частые выстрелы. С верхушки стены полетел битый камень.
Мы бросились через темный сад. Стволы деревьев, вымазанные известкой, белели в темноте, и это нам помогло.
Казаки лезли через стену вслед за нами. Пуля свистнула где-то рядом. Мы добежали до противоположной стены сада. В ней был пролом.
Казаки уже бежали по саду, но они теряли время на то, чтобы прикладываться к винтовкам, и мы успели выскочить в пролом. В трех шагах от него был крутой обрыв к морю.
Мы скатились с обрыва и бросились вдоль берега. Казаки стреляли сверху, но они уже потеряли нас в темноте, и пули шли в сторону.
Мы долго пробирались по берегу, изрытому оврагами и пещерами. Прибой все так же равнодушно и сонно рокотал по гальке. Трудно было поверить, что человек может бессмысленно убить такого же, как он, человека перед лицом этой осенней, теплой, пахнущей чабрецом ночи, перед лицом шумящего спокойными волнами моря. По наивности своей я думал тогда, что зло всегда отступает перед красотой и что нельзя убить человека на глазах у Сикстинской мадонны или в Акрополе.
Смертельно хотелось курить. Выстрелы стихли. Мы залезли в первую же пещеру и закурили. Пожалуй, никогда в жизни я не испытывал такого наслаждения от папиросы.
Часа три мы просидели в пещере, потом вышли и крадучись пошли по берегу к санаторию Ландесмана. Все вокруг было тихо.
Против санатория мы, цепляясь за кусты и камни, влезли по отвесному обрыву к высокой крепостной ограде санатория. В цоколе ограды было пробито круглое отверстие для стока дождевой воды. Мы пролезли в него, потом завалили его камнями, хотя это было совершенно ненужно, и вошли в дом.
Назаров не спал. Он оторопел от нашего рассказа. В ванной, где не было окон, мы зажгли коптилку и впервые увидели себя. Платье было порвано, руки изодраны в кровь. Но, в общем, мы легко отделались от смерти.
Мы жадно напились чаю и опьянели. Конечно, не от чая, а от удивительного, ни с чем не сравнимого, какого-то невесомого чувства безопасности. Если есть полное счастье, то оно было в ту ночь с нами.
Мне хотелось насколько возможно продлить это чувство. Я оделся, взял одеяло и пошел в лоджию – глубокую нишу на втором этаже с выступающим балконом. В лоджии было темно. Ветер не проникал в нее, и меня никто не мог заметить с улицы.
Я сел в плетеный шезлонг, закутался в одеяло и так просидел до рассвета, прислушиваясь к звукам ночи.
Из главы «ПОСЛЕДНЯЯ ШРАПНЕЛЬ»
С каждым днем жизнь в Одессе становилась тревожнее. Бои с советскими частями шли уже под Вознесенском.
В Константинополь отходили пароходы, переполненные беглецами. Почти все эти пароходы – грязные, с облезлой черной краской на бортах – выползали из порта с большим креном, были нагружены выше ватерлинии и так густо дымили, что этим дымом заволакивало весь Ланжерон и нашу Черноморскую улицу.
Но газеты еще выходили. Белое командование знало, что конец приближается буквально по часам, но всеми силами скрывало это от населения, особенно от беглецов с севера. В газетах печатались телеграммы о том, что наступление большевиков приостановлено и в Одессу отправлены из Салоник крупные французские воинские части с артиллерией и газами.
…Однажды к нам в редакцию пришел Бунин. Он был обеспокоен и хотел узнать, что происходит на фронте. Стоя в дверях, он долго стаскивал с правой руки перчатку. На улице шел холодный дождь, кожаная перчатка промокла и прилипла к руке.
Наконец он стянул перчатку, мельком осмотрел серыми спокойными глазами дымную комнату, где мы сидели, и сказал:
– Да, у вас небогато.
Мы почему-то смутились, а Назаров ответил:
– Какое уж тут богатство, Иван Алексеевич. На ладан дышим.
Бунин взял стул и подсел к столику Назарова.
– Кстати, – сказал он, – вы не знаете, откуда взялось это выражение «дышать на ладан»?
– Нет, не знаю.
– В общем – конец! – сказал Бунин и помолчал. – Дождь, холод, мрак, а на душе спокойно. Вернее, пусто. Похоже на смерть.
– Вы загрустили, Иван Алексеевич, – осторожно сказал Назаров.
– Да нет, – ответил Бунин. – Просто неуютно стало на этом свете. Даже море пахнет ржавым железом.
Он встал и ушел в кабинет редактора.
С юных лет я любил Бунина за его беспощадную точность и печаль, за его любовь к России и удивительное знание народа, за его мудрое восхищение миром со всей его разнообразной красотой, за зоркость, за ясное бунинское ощущение, что счастье находится всюду и дано только знающим. Уже в то время Бунин был для меня классиком. Я знал наизусть многие его стихи и даже отдельные отрывки из прозы. Но выше всего по горечи, по страданию и безошибочному языку я считал маленький рассказ – всего в две-три страницы – под названием «Илья-пророк».
Поэтому сейчас я боялся сказать при нем хотя бы слово. Мне было просто страшно. Я опустил голову, слушая его глухой голос, и только изредка взглядывал на него, боясь встретиться с ним глазами.
Много лет спустя я прочел «Жизнь Арсеньева». Некоторые главы этой книги стали для меня чем-то более высоким, чем самая совершенная поэзия и проза. Особенно то место, где Бунин говорит о костях своей матери, зарытых в глинистой и холодной елецкой земле, о неизбежной потере единственно любимых людей, об отчаянии этой любви и бедном сердце, тяжело бьющемся в пустоте жизни. Он знал простые слова, разрывающие наше сердце:
Плакала ночью вдова:
Нежно любила ребенка, но умер ребенок.
Плакал и старец-сосед, прижимая к глазам рукава,
Звезды слезами текут с небосклона ночного.
Плакала мать по ночам.
Плачущий ночью к слезам побуждает другого:
Звезды светили, и плакал в закуте козленок,
Плачет Господь, рукава прижимая к глазам.
Бунин вскоре ушел. Я не мог больше работать, править высосанные из пальца и безграмотные заметки одесских репортеров и ушел к себе на Черноморскую.
…Яша вбежал ко мне в комнату. Пришел Назаров. Яша кричал, что белые бегут без единого выстрела, что в порту – паника, что французский крейсер бьет в степь наугад и что нужно немедленно захватить самое необходимое, сложить маленький чемодан и идти в порт. Там уже началась посадка на пароходы.
– Ну и что же, – сказал я ему. – Идите. Это – дело вашей совести. Но я считаю, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя бросать свою страну. И свой народ.
– Да, – добавил Назаров. – Жизнь вне России не имеет никакой цены и никакого смысла. А если ваша жизнь, Яша, уж так драгоценна, – не знаю для кого, – так бегите, черт с вами.
– Глупости! – пробормотал Яша и покраснел до того, что на глазах у него выступили слезы. – Все бегут. Это меня засосало. Ну, конечно же, я никуда не уеду.
Решения в то время требовали быстроты. Одна минута колебания могла исковеркать всю жизнь или спасти ее.
Яша остался. Он бурно радовался тому, что ни о чем уже не надо думать и не надо колебаться. Он даже вскипятил чай, мы наспех выпили его и пошли в Александровский сад.
…Я долго потом не мог отделаться от гнетущего ощущения, будто я уже видел на картине какого-то беспощадного художника это гомерическое бегство, эти рты, разорванные криками о помощи, вылезающие из орбит глаза, зеленые от ужаса лица, глубокие морщины близкой смерти, слепоту страха, когда люди видят только одно – шаткие сходни парохода со сломанными от напора человеческих тел перилами, приклады солдат над головами, детей, поднятых на вытянутых материнских руках над обезумевшим человеческим стадом, их отчаянный плач, затоптанную женщину, еще извивающуюся с визгом на мостовой…
Люди губили друг друта, не давая спастись даже тем, кто дорвался до сходней и схватился за поручни. Несколько рук тотчас вцеплялись в такого счастливца, повисали на нем. Он рвался вперед, тащил за собой по сходне беглецов, но тут же срывался, падал вместе с ними в море и тонул, не в силах освободиться от своего живого и страшного груза.
…Над мостиком одного из пароходов вырвалась к серому небу струя пара, и раздался дрожащий густой гудок. Тотчас, подхватив этот гудок, закричали на разные голоса все остальные пароходы. То были прощальные отходные гудки.
1956






