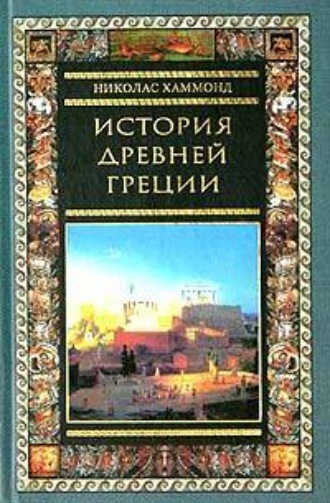
Николас Хаммонд
История Древней Греции
3. Спартанская экспансия
Дорийцы, завоевавшие Лаконию, селились в независимых деревнях, которых насчитывалось около сотни, и были организованы в шесть царств. Однако цари Спарты как наследники Гераклидов – первых покорителей Лаконии – традиционно претендовали на верховенство над всеми «лакедемонянами». После объединения пяти деревень в Спартанское государство, Спарта в период 800–730 гг. покорила все остальные деревни, и их жители получили неполноправный статус вассалов-периэков. С тех пор покоренные деревни решали внутренние дела под контролем спартанского представителя (harmostes), с некоторых земель выплачивали десятину спартанским царям, а во внешней политике полностью следовали курсу Спарты. Они не имели ни гражданских прав, ни политического представительства в Спарте, но в военное время подлежали призыву в армию и подчинялись спартанскому военному законодательству. Таким образом, вся Лакония стала Лакедемонским государством, контроль над которым находился исключительно в руках Спарты. Теперь последняя была защищена кольцом подчиненных общин, а ее армия увеличилась за счет выставленных ими контингентов.
Следующим шагом стало покорение Мессении. Эта война, продолжавшаяся двадцать лет, приблизительно в 740–720 гг., закончилась аннексией страны, по размерам почти не уступавшей Лаконии. «Обширная Мессения, годная для пашни и для посева», была разделена на доли (klaroi) для спартиатов, а в горах основаны деревни периэков. Мессенская твердыня, Итома, была разрушена, уцелевшие мессенийцы обращены в сервов, «трудившихся подобно мулам под тяжкой ношей и отдававших хозяевам половину своего урожая под страхом сурового наказания». Благодаря этому завоеванию сельскохозяйственные ресурсы и рабочая сила Спартанского государства удвоились. Спарта превратилась в потенциально богатейшее и самое могущественное государство в Греции VIII в. – потенциально, потому что упрочение ее завоеваний в Лаконии и Мессении происходило постепенно. Первый дорийский полис на материке проявил себя как грозная сила уже в первое столетие своего существования.
В напряженных условиях завоевательных войн государственное устройство Спарты подверглось некоторым изменениям. В правление Полидора и Теопомпа, вероятно около 757 г., в Великую Ретру с благословения Дельф было добавлено следующее предложение: «Но если народ рассудит неверно, да пусть старейшины и цари распустят собрание». Право окончательного решения, которым Ликург наделил народное собрание, было урезано этой формулировкой, так как, если его мнение не совпадало с мнением Герусии, его распускали. В результате, как и на Крите, функция собрания свелась к одобрению предложений, внесенных Герусией. Однако если в Герусии не могли прийти к единому мнению, то выбирать между конкурирующими предложениями членов Герусии по-прежнему приходилось собранию, чье решение являлось окончательным. Такое изменение законов упрочило позиции Герусии. Когда ее члены придерживались единого мнения, они фактически не нуждались в одобрении собрания и могли принимать тайные, но важные решения, как, например, в преддверии 2-й Пелопоннесской войны.
Ослабление демократической стороны государственного устройства в некоторой степени компенсировалось превращением эфората в важный государственный орган. Эфоры как выборные представители народа ежемесячно принимали от царей клятву соблюдать законы и, в свою очередь, приносили клятву уважать власть царей. Двое эфоров сопровождали царя на войне, и они имели право арестовать его и осудить по возвращении в Спарту. К эфорам перешли судебные полномочия царей, за исключением вопросов усыновления и наследования. Эфоры могли отрешить от должности и осудить нижестоящих должностных лиц, и любой спартанский гражданин мог быть наказан по их совместному указу. Кроме того, они же ежегодно формально объявляли войну илотам и могли арестовать любого периэка. Эфоры имели право присутствовать на совещаниях Герусии и возглавляли народное собрание. Их власть была столь велика, что в поздние времена, когда престиж царей упал до минимума, они стали править государством «как тираны».
4. Другие дорийские полисы
Успехи Спарты заставили и других дорийцев последовать ее примеру. В Мегариде дорийцы, как обычно разделенные на три племенных филы, низвели недорийское население до положения сервов, а сами жили в пяти независимых деревнях (komai). В VIII в., вероятно, около 750 г., эти деревни политически, но не физически, объединились в полис, или город-государство Мегара. Граждане Мегары были организованы по пяти филам на основе пяти деревень; они назначали пятерых полководцев и пятерых магистратов (demiourgoi), и каждая фила поставляла солдат в государственную армию. Деревни сохранили за собой лишь некоторые функции местного самоуправления, а их политическая жизнь осуществлялась в рамках единого государства мегарян, которое вскоре энергично проявило себя в войне с Коринфом и заморской колонизации.
В Коринфии дорийцы даровали привилегии некоторым членам недорийской знати, из которых сформировалась фила синофалов, дополнившая три традиционные дорийские филы. Сперва дорийцы, вероятно, жили в независимых деревнях, так как на территории, позже подчиненной Коринфу, раскопаны руины трех небольших деревень, относящихся к IX и VIII вв. Согласно старинному преданию, «в соответствии с ответом оракула Алет приказал коринфянам жить вместе, образовав восемь фил граждан и восемь частей государства». Поскольку Алет стоял во главе первоначального завоевания Коринфии, не следует приписывать ему это позднее нововведение, но, судя по этому утверждению, полис, или город-государство коринфян, был создан как политический союз восьми деревенских общин, из жителей которых были образованы восемь фил. Это произошло, вероятно, в VIII в., ранее 747 г., когда началось ведение списка магистратов, по имени которых назывались годы. Коринф, как и Спарта, гордился своей эвномией, и двое коринфян заслужили известность как законодатели. Фидон, считающийся одним из первых греческих законодателей, принял законы, согласно которым количество городских домов (а следовательно, и число граждан) в Коринфе должно было оставаться неизменным, даже если первоначальные землевладения (klaroi) и различались размерами. Очевидно, он решал ту же проблему, что и Ликург в Спарте. Филолай, возглавлявший государство в 728 г., перебрался из Коринфа в Фивы, где провел законодательство об усыновлении, направленное на сохранение количества земельных участков (klaroi) и, следовательно, граждан Фив, которые после этого, возможно, стали полисом.
Энергия новых государств Мегары и Коринфа была направлена не только на создание сильных колоний, но и на войну друг с другом. Яблоком раздора служила южная Мегарида, возможно включавшая Перахору. Около 725 г. Коринф завоевал эту область и обратил ее жителей в сервов, но мегарянин Орсипп, победитель Олимпийских игр 720 г. в беге, успешно провел освободительную войну. К концу столетия Коринф навсегда установил свою власть в Перахоре и южной Мегариде.
Полис дорийского типа, возникший на Крите, в Спарте, Мегаре, Коринфе и, вероятно, в Фивах, не был известен в микенском мире. Он был создан дорийцами, а не ионийцами, эолийцами или аркадцами – наследниками микенской традиции. Благодаря такому устройству дорийские государства с самого начала пользовались преимуществом в силе, а полис стал характерным признаком эллинской цивилизации.

Парусный торговый корабль. С аттической чернофигурной вазы. Ок. 540 г.
Глава 2
Колониальная экспансия греческих полисов
1. Ресурсы греческой колонизации
В сфере практических свершений ни одно достижение греческих полисов не было столь масштабным и имеющим столь далеко идущие последствия, как колониальное движение. Оно проложило путь, которым эллинизм пришел к народам Южной Европы, в страны вокруг Черного моря и на ливийское побережье Африки. Основание колоний явилось чрезвычайно важным этапом в развитии не только эллинской, но и европейской цивилизации. Проводили колонизацию полисы, и ее итогом было возникновение новых полисов. Основывал ли колонию Коринф или Колофон, сама эта колония становилась новым полисом. Как мы уже видели, каждый отдельный полис представлял собой незначительное образование в системе мировых держав. Но его потенциал проявился в колонизационной активности не менее ярко, чем в борьбе с Персидской империей.
Греческая колонизация осуществлялась по морям. Ее границы определялись наличием соперничающих морских держав в лице Финикии, Этрурии и Египта. Колонии основывались на островах или в прибрежных районах, откуда вытеснялись народы, еще не обладавшие сильной государственностью. Развиваясь, эти колонии основывали новые колонии в аналогичных местах, редко расширяя свои земли в глубь суши. Их существование держалось на мореплавании. Торговое судно, как и в бронзовый век, представляло собой парусник с широким изогнутым корпусом, глубокой осадкой, высокими носом и кормой – небольшой, неторопливый и устойчивый (см. с. 122). Однако военный корабль претерпел в конце IX и VIII вв. эволюцию: теперь у него был низкий прямой корпус с удлиненной килевой балкой, образующей узкий таран. На боковых палубах находились боевые площадки для моряков. Корабль приводился в движение гребцами, размещавшимися в один ряд (фото IIIa), но мог ходить и под парусом. На коринфской вазе изображен другой тип военного корабля VIII в.: длинное низкое судно с сужающимся тараном и без палубы, имеющее по двадцать одному веслу с каждой стороны. Корабли обоих типов – с боковыми палубами и беспалубный – широко применялись в VII в. Но в VI в. преобладали последние; тогда они подверглись стандартизации и были сведены в два класса: триаконтеры с 30 веслами и 30-метровые 50-весельные пентеконтеры. Эта эволюция конструкции кораблей сопровождалась и сменой тактики сражения: вместо абордажа стал применяться таран, так как триаконтеры и пентеконтеры были достаточно быстрыми и маневренными орудиями, чтобы протаранить вражеский корабль (см. с. 155 и фото Шб). По сравнению с ними финикийский военный корабль 705–686 гг. с двумя рядами гребцов и сильно выступающим тараном был неуклюжим и неустойчивым.
Практически на протяжении всего VIII в. лидерство, вероятно, принадлежало ионийцам, так как в то время они были пионерами в исследованиях и колонизации. Однако появление нового типа военных судов, стандартными примерами которых служат триаконтеры и пентеконтеры (а намного позже – триремы) произошло в дорийском государстве Коринфе. Четыре военных корабля такого типа были построены около 705 г. для Самоса коринфским кораблестроителем Аминоклом. Парос и Милет также в начале VII в. обзавелись пентеконтерами. Это усовершенствование позволило Коринфу и его колониям надолго установить свое господство в водах между Грецией и Сицилией, которое, однако, не привело к монопольному владению открытыми морями. Небольшие открытые военные корабли старались на ночь пристать к берегу и были менее приспособленны к штормовой погоде, чем торговые корабли; поэтому установить с их помощью блокаду было нереально. Более того, сам полис был невелик в размерах, и его военные корабли исчислялись десятками, а не сотнями; например, около 535 г. в Алалии фокейцы набрали экипаж для 60 пентеконтер. Таким образом, в эпоху колонизаций ни одно государство не обладало полным господством на морях – талассократией, как его называли в V в.
По этой и по иным причинам сомнительно, можно ли хоть в какой-то степени доверять так называемому «Списку талассократий», по крайней мере в его ранней части, который дошел до нас в сочинении Диодора Сицилийского. В этом списке перечисляются все талассократии и их продолжительность, начиная с момента вскоре после падения Трои и кончая походом Александра Македонского (иногда кончая Ксерксом). Большинство государств, основывавших колонии на Западе, скорее наводит на мысль, что коринфский флот был лишь немногим больше, чем первый среди равных.
Рано или поздно колониям приходилось воевать – обычно с местными народами в ходе создания и укрепления колонии, но нередко и с соседними колонистами. Военное искусство имело величайшее значение. В середине VII в. фараон Псамметих I нанимал на военную службу ионийцев и карийцев как лучших бойцов на Ближнем Востоке. Их называли бронзовыми людьми, поскольку они носили бронзовые доспехи – шлем, латы и наголенники. Эти доспехи предназначались для ближнего боя. Пехотинец шел в атаку с колющим копьем, защищенный круглым щитом, который крепился к его левому предплечью металлической полоской. Изобретение такого вооружения вкупе с храбростью и мастерством греческих тяжеловооруженных пехотинцев, или гоплитов, как их называли по щиту (hoplon), обеспечило греческим армиям превосходство, в котором их превзошла лишь македонская пехота.

a) Золотой перстень-печатка из шахтной гробницы IV в Микенах, изображающий применение щита, колющего копья, меча-рапиры и кинжала

б) Голова из слоновой кости в шлеме с кабаньими клыками. Найдена в Микенах

в) Бронзовый рубящий меч из Мулианы (Крит). 3-й позднеминойский период

г) Ваза с изображением воинов из Микен, 3-й позднеэлладский период. Видны шлемы с продольными рогами, небольшие щиты и колющие копья
Рис. 10
Появление этой амуниции можно приблизительно датировать по изображению ее характерных деталей на вазах и статуэтках: в Спарте, Коринфе, Афинах, Крите и Хиосе около 700–675 гг.; в Беотии, Эвбее и Кикладах – около 700–650 гг.; и в городах Малой Азии несколько позже. Поскольку археологические данные указывают нам лишь самый поздний срок, вполне вероятно, что вооружение гоплитов было изобретено на материке, в первую очередь в дорийских полисах, незадолго до 700 г. Так, коринфские колонисты при основании колоний полагались не только на свои боевые корабли, но и на солдат. Кроме того, греки в эпоху колонизации славились не только тяжелой пехотой; они искусно владели также мечом, луком, пращой и дротиками.
Но своим успехом греческая колонизация обязана не только этим усовершенствованиям в кораблестроении и военном деле. Фундаментальной основой колонизационного движения была, как заметил Фукидид, стабилизация условий жизни в метрополии. Вследствие этого возникали полисы, в первую очередь дорийские, обладающие достаточными ресурсами и организационными способностями, чтобы основывать колонии за счет менее развитых народов. Кроме того, в это время мир греческих полисов не был расколот великими войнами между враждующими коалициями, которые бушевали в V–IV вв., положив конец крупномасштабной колонизации. Разумеется, в VII и VI вв. происходили войны между государствами, но они носили локальный характер и не приводили к столь катастрофическим последствиям.
2. Основные черты колоний
Греческая колония представляла собой поселение вдали от дома (apoikia). Колонисты, отправляясь в путь, возглавляемые колонизатором (oikistes), забирали из очага родного города священный огонь, что символизировало основание нового полиса. Кроме того, они придерживались своих религиозных и политических правил: культов, государственного устройства, календаря, диалекта, алфавита и т. д. Таким образом, новое государство становилось копией старого. Так, колонии Милета назывались по имени жреца Аполлона (Stephanophoros), а главными должностными лицами в них являлись Prytaneis; в Кизике, например, сохранились особый культ Аполлона, разделение на шесть фил, милетский календарь и алфавит. Эпизефирийские Локры управлялись Советом тысячи – наследниками «ста домов», которые представляли собой аристократию Опунтийской Локриды. Тарент, колония Спарты, сохранил культ Аполлона Гиакинтия и первоначально управлялся царем.
Когда первичные колонии сами основывали дочерние колонии, в качестве ойкистов они обычно приглашали граждан своей метрополии и переносили на новую почву все старые институты. Коринфяне основали Эпидамн под руководством Гераклида из Коринфа; Гераклея, колония Тарента, имела коллегию эфоров; а в Эвсперидах, колонии Кирены, имелись и эфоры, и Герусия. Таким образом, духовная связь между метрополией и колонией была очень сильной. В основе ее лежало чувство долга колонистов перед государством, выступавшим как организатор и начинатель предприятия, подкрепленное сильным чувством родства со всеми его семейными, религиозными и политическими институтами.
Но когда колония прочно укоренялась на новой почве, узы между ней и метрополией обрубались. Символом полной независимости апойкии было то, что в ней почитали не метрополию, а своего ойкиста, даже если он был чужестранного происхождения. В целом метрополия обычно не предъявляла политических прав на свою колонию. Известны лишь несколько исключений. Коринф претендовал на главенство в совместных с колониями церемониях и ежегодно посылал чиновников в Потидею; Занкла сохраняла политический контроль над Милами, а Синоп в IV в. получал со своих колоний дань. Невозможно определить, существовали ли подобные исключения с первых лет колонизации или проявились позже. Кроме того, метрополии могли быть добровольно дарованы привилегии, такие, как свобода от налогообложения, дарованная Ольвией гражданам Милета, проживающим в Ольвии. Или же метрополию могли пригласить рассудить спор между двумя ее колониями. Но подобные привилегии и приглашения распространялись не только на метрополии, но и на другие государства. Судейство также своим появлением обязано контактам, предшествовавшим эпохе колонизации; например, Аргос выступал судьей между Тилиссом и Кноссом, заселенным жителями Арголиды в эпоху переселений. В общем, независимость колоний была полной и неоспоримой.
Власть колонии над своими гражданами была такой же абсолютной, как и в метрополии. На Левкасе и в Локрах продажа земельных участков, розданных при основании колонии и передававшихся от отца к сыну, была либо полностью запрещена, либо разрешалась в исключительных случаях. Метрополия также принимала меры к тому, чтобы колонисты не покидали свою колонию. На Фере граждане, избранные жребием, обязаны были отправляться в Кирену, не имея возможности вернуться домой и пользоваться гражданскими правами, если только вся колония не прекратит свое существование; в Эретрии вернувшихся поселенцев, вытесненных коринфянами с Керкиры, изгнали из города пращами, и им пришлось основать Метону в Македонии. Подобная мера, вероятно, была особенно необходима при основании дочерних колоний, так как вторичные колонисты (epoikoi) нередко были родом из иных государств, чем метрополия, и было важно создать гарантии того, что они останутся в колонии.
Основание колонии являлось сознательным политическим актом метрополии. Официально испрашивалось благословение оракула, благодаря чему предприятие принимало характер богоугодного дела. Ионийцы азиатского побережья обращались к оракулу Аполлона в Дидиме, а жители материка – к оракулу Аполлона в Дельфах, а возможно, и к оракулу Зевса в Додоне. Божественным вождем (archegetes) колонии считался сам бог. Так, Аполлон Дидимский играл эту роль в Аполлонии Риндакийской, а Аполлон Дельфийский – в Наксии на Сицилии; тщательно соблюдались культ Аполлона Архегета как божественного основателя и культ колониста как земного основателя, контакт с оракулом поддерживался назначением священных послов (theoroi) в колонии. Некоторые из ответов Аполлона Дельфийского сохранились в оригинальном виде. Ойкист колонии паросцев на Тасосе (ок. 710 г.) получил ответ: «Объяви паросцам, о Телесикл, что я приказываю тебе основать богатый город на острове Эрия». Ойкисты Гелы, колонии Крита и Родоса, получили следующее предписание: «Энтим и хитроумный сын знаменитого Кратона, отправляйтесь оба в Сицилию и заселите эту прекрасную землю, построив город критян и родосцев у устья священной реки Гела и назвав его по имени реки». Из этих примеров ясно, что колонисты стремились, чтобы бог благословил их выбор ойкистов и места для колонии.
Когда санкция божества была получена, колонисты отправлялись создавать новое государство. Поселенцы иногда шли несколькими волнами (поздних поселенцев обычно называли epoikoi), но, поскольку их целью было создать независимую и самодостаточную с самого начала общину, в их число входили представители различных классов и профессий. Многие поселенцы в Сиракузах происходили из Тенеи во внутренней Коринфии; без сомнения, это в основном были крестьяне, надеявшиеся получить надел земли. На Фере участие в колонизации всех слоев населения достигалось жеребьевкой между братьями по всему острову, что, возможно, преследовало также цель покончить со спорами из-за земли в крупных семьях метрополии. Если ожидалось сопротивление коренных жителей, в первую волну поселенцев входили воины. Например, в Аполлонию Иллирийскую сперва прибыли 200 колонистов из Коринфа, а в двух пентеконтерах, отправленных в Платею с ливийского побережья, было наверняка меньше. Для борьбы с более воинственным местным населением коринфяне послали тысячу человек на Левкас, а милетяне отправили 30 кораблей для основания Милесиона-Тейхоса в Египте. Многие из колоний как были поначалу невелики, так и не сумели существенно вырасти. Например, Анакторий, расположенный на небольшом полуострове, в 433 г. снарядил лишь один корабль для коринфского флота.
Выбирая место, колонисты прежде всего заботились о достаточном количестве плодородных земель для самообеспечения, но их выбор зачастую оказывался ограничен их небольшой численностью и необходимостью селиться в месте, удобном для обороны. Предпочитали небольшие острова, а с них основывали новые поселения. На западе самые первые колонисты заняли остров Искья у итальянского побережья, а позже Киму; на юге – остров Платею, а потом Кирену на ливийском побережье; у западного побережья Черного моря – остров Истр. Типичным было расположение колоний на перешейке полуострова – такими колониями были Синоп, Левкас и Милы, или на возвышенном месте в устье крупной реки – например Эниады, Тир и Ольвия. Основать крупный или слабозащищенный город мог лишь большой отряд колонистов, такой, какие посылали сильные дорийские государства Спарта, Коринф и Мегара. Именно по этой причине, а не потому, что колонисты из Халкедона не заметили преимуществ данного места, был с запозданием основан Византий.


