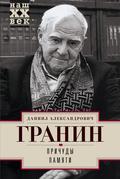Даниил Гранин
Сочинения. Том 2. Иду на грозу. Зубр
Глава третья
Клубом служила верхняя площадка запасной лестницы. Здесь пахло табаком, стояли ведра уборщиц, щетка, старые урны – всего этого было достаточно для уюта. Ни одна лаборатория не имела такого милого местечка. В главном здании коридоры были слишком чистые и светлые, там приходилось маяться в просторной гостиной, обставленной новенькими креслами.
Они сидели на перилах, курили, и Бочкарев пытался выяснить, какая муха укусила старика, откуда это неожиданное предложение. В последнее время Голицын наконец решился выступить против академика Денисова, и тут Крылов и Бочкарев были целиком на стороне своего шефа, и, может быть, зная это, он хотел укрепить тылы. А может, он просто задумался о наследнике.
– Ты вполне подходишь для наследного принца, – говорил Бочкарев. – Кандидат, физик, подаешь надежды, молод. Чего мы будем гадать, бери и властвуй.
– А зачем мне это нужно? – спрашивал Крылов.
– Вот тебе и на. Приехали! Лабораторией должен руководить ученый. А нашей – физик. Старик чувствует.
– Ох этот старик!
Несмотря на все слабости Голицына, они почитали его. Что бы там ни говорилось, шеф по праву слыл одним из основоположников науки об атмосферном электричестве. Последний зубр, старая школа, он, как никто, знал проблему в целом – правда, скорее как метеоролог, а не как физик. Он обладал широтой, но ему не хватало глубины, которая требует узости.
– Кое-чем тебе придется пожертвовать, не без этого, – говорил Бочкарев, – но важен общий выигрыш.
Крылов сплюнул в пролет.
– Иначе что же, иначе Агатов, – сказал Бочкарев. – Ты откроешь дорогу Агатову. А что страшного? Он хороший организатор.
– Да-да, многие так считают. Но ты! Он же не творческий человек. Он бесталанен. Это опасно, как гангрена. Недаром он рвется к этой должности. Еще до Пархоменки был у нас такой завлаб Сирота, дурак дураком. Агапов спихнул его, все были рады, но я тогда уже почувствовал, что Агатов для себя старался. А прислали Пархоменко. Ну, Пархоменко – доктор, талантище, Агатову не по зубам. Вы небось полагали, что Агатов в восторге от Пархоменки. Как бы не так! Он его тоже выпихивал, только на сей раз наверх выдвигал. Бог ты мой, какие вы все слепцы!
– Любим мы преувеличивать, – сказал Крылов. – Ну, хочет быть начальником – значит, будет хорошо работать. А я не хочу. Мне со своей темой не разобраться. Чего ради я буду еще с вами возиться. Да я и не умею.
– Учись. Еще Офелия говорила: все мы знаем, кто мы такие, но мы не знаем, кем мы можем быть.
– Офелия для меня не авторитет. Ей не предлагали быть начальником лаборатории. Мне надо добивать свою тему. Не нужен мне берег турецкий.
– А всякая шушера в лаборатории тебе нужна? – рассердился Бочкарев. – Вот увидишь, что получится.
Склонный к анализу, он неумолимо выводил печальные последствия отказа Крылова.
– А почему бы тебе не пойти на эту должность? – спросил Крылов. – Ты так хорошо понимаешь необходимость самопожертвования.
Бочкарев считался лучшим специалистом по измерительной технике. Ему несколько раз предлагали защищать докторскую – он только пожимал плечами: зачем, разве он станет больше знать оттого, что получит степень доктора? Он нисколько не рисовался, этот маленький горбун с большой яйцевидной лысой головой. Временами, наблюдая, как он, бормоча и пришептывая, колдует над схемой, Крылов понимал, что ничего более приятного для Бочкарева не существует.
«Его величество эксперимент, – поддразнивал Голицын, – нет, отклонение стрелки – это еще не наука». Бочкарев мягко соглашался, но иначе он работать не мог. Конечно, из муки можно изготовить разное, оправдывался он, но в любом случае для этого надо смолоть зерно.
Бочкарев заходил по площадке, отшвыривая ногами ведра.
– Где уж мне с такой рожей. Может, это глупо… Я однажды замещал Голицына… Пришлось заседание вести, так мне все время казалось, что все смотрят на меня и смеются. Мне на людях всегда мучительно. Я себе Квазимодой кажусь.
Большие грустные глаза его влажно блестели. Крылов давно свыкся с внешностью Бочкарева, не замечал ее, но сейчас вдруг вспомнил, что на собраниях Бочкарев забивался в дальний угол, никогда его не заставишь выступить, и на институтских вечерах он не показывался. Он воображал себя уродом, и спорить с ним было бесполезно.
– Наплюй, – сказал Крылов. – И не замыкайся. Чуть что, бей по морде интеллектом. Талант – это ж самая редкая красота. Она у тебя на физиономии написана.
Бочкарев вяло покачал головой:
– Когда-то в детстве мне сказали, что все горбуны злые. С тех пор я на всю жизнь боюсь стать злым. Мне очень легко озлиться.
В дверях показался Ричард.
– Я-то вас ищу! – обрадовался он. – Сергей Ильич, поздравляю. Каков фитиль Агатову! Ну и спектакль выдал старик! Теперь держись!
Он оглушил их проектами реконструкции лаборатории, новыми темами. Фантазия его разыгралась: он запускал спутники с телевизионными установками, управлял погодой. Он не желал и думать, что Крылова может не устраивать должность начальника лаборатории. Не умолкая ни на минуту, он приседал, разминался, подтягивался на стремянке, корчил рожи, изображая то Агатова, то Голицына. Жажда деятельности переполняла его.
– Ну вот, эгоист, слыхал глас народа? – сказал Бочкарев.
– Сами вы эгоисты, – ответил Крылов. – Только вас много, поэтому вы называете себя коллективом.
Ричард поразился:
– Вы не хотите?! Сергей Ильич! – Глаза, руки, брови, все тело его выражало удивление, даже выцветшая клетчатая ковбойка удивленно уставилась беленькими пуговичками.
– Я работать хочу, – сказал Крылов. – Идите вы все!.. У меня только-только проклевывается.
– Сами требуем дорогу молодым, обновить руководство.
– А когда предлагают, то в кусты! Наперебой они наседали на него…
А на озере прозрачный лед прогибался под ногами, и видно было, как белые пузыри воздуха сплющивались там, над водой. Ветер сбивал с ног. Несколько раз они проваливались – хорошо, что было мелко и счетчики не упали в воду. Мокрые, застуженные, они еле добрались до рыбачьего поселка и долго грелись в буфете. Они ели винегрет, пили водку. Из-за стойки вышел тяжелый, старый кот. Он лизнул мокрые Наташины брюки и закричал басом.
– Кот заколдован, – сказала Наташа. – Не верите? Хотите, он съест соленый огурец?
– Чепуха, – сказал Крылов, – коты не едят огурцов. Наташа бросила на пол желтый кружок огурца. Кот понюхал и захрустел…
– …Начальник, он всегда умнее, – сказал Ричард. – Стать начальником – верный способ поумнеть.
– Агатов собирался расширять лабораторию. А мне кажется, надо ее уменьшать. Сократить договорные темы, – сказал Бочкарев.
Поставив руки на бедра, Ричард наклонялся вправо, влево, приговаривая:
– К – вопросу – о – некоторых – данных – наблюдения – гроз – Тульской – области – во – второй – половине – девятнадцатого – века…
– Агатова надо как-то нейтрализовать, он опасен.
– Заарканим, – сказал Ричард. – Неужели вы его боитесь, Сергей Ильич?
– Никого я не боюсь. Братцы, – Крылов виновато положил им руки на плечи, – отступитесь вы от меня. – И ушел.
– Что с ним творится? – спросил Ричард.
– Это с тех пор, как он вернулся с Озерной, – сказал Бочкарев.
Ушел и Ричард, стало тихо. Бочкарев походил, посмотрелся в блестящий наконечник пожарного шланга. Кривое зеркало делало его лицо почти нормальным.
Крылов шагал из комнаты в комнату, разглядывая привычные стенды, аппаратуру, своих товарищей. Внезапно он услышал тикающие, щелкающие, жужжащие звуки включенных приборов. Перья самописцев неутомимо рисовали невидимые бури, происходящие где-то в черной дали Вселенной, взрывы на Солнце, ливни космических частиц. На тонких дрожащих линиях отражалась жизнь мельчайших частиц, дыхание земного шара, его дожди, грозы – все, что творилось в этом чистом голубом небе и в этом весеннем воздухе. По мерцающему экрану атмосферика проносились зеленые разряды гроз, идущих над Африкой.
Его подозвал Матвеев, показать монтаж следящей системы. Судя по всему, получалось надежно и просто. Матвеев всегда показывал свои работы Крылову, хотя Крылов разбирался в этих вещах хуже его. У Матвеева не было диплома, и он робел перед каждым инженером.
Матвеев поворачивал диск. Обшлага его сатиновой спецовки лохматились. Крылов вспомнил, что никогда не видел на Матвееве приличного костюма. Из-за проклятого диплома Матвеев до сих пор числился старшим лаборантом. А между тем он был отличным, самостоятельным ученым, и следовало давно уже выхлопотать ему персональный оклад, доказать начальству, что о таком человеке надо судить не по диплому, а по тому, что он есть и что он может дать.
Крылов собрался было сказать ему об этом, но вдруг сообразил, что теперь сочувствовать и возмущаться он уже не может. Наверное, надо что-то обещать. Или он должен вообще промолчать. И это непривычное чувство связанности удивило и не понравилось. Подбежала Зина, разложила осциллограмму, попросила отметить нужные пики. Она прижалась к нему грудью, шепнула:
– Смотаемся позагорать на вышку? Мы все идем в обеденный.
Крылов почесал затылок.
– Ну вот, уже заважничали, – сказала Зина.
Он не нашелся что ответить. И это было глупо – еще вчера вместе со всеми он валялся на вышке, и играл в дурака, и посматривал, не идет ли пожарник, потому что на старую вышку было строго-настрого запрещено забираться.
Миновав аккумуляторную, Крылов свернул к вычислителям, но, не дойдя до них, остановился и пошел назад. В коридоре он встретил Песецкого.
– Сережа, – сказал Песецкий, – эн равно минус два. Из кармана его пиджака торчала «Юманите».
– Чего пишут? – спросил Крылов.
– Ужасы капитализма. Девушка отравила одиннадцать родственников. – сказал Песецкий. – Эн равно минус два. – убежденно повторил он и помахал перед Крыловым исписанными листками.
– Неохота мне браться за лабораторию, – сказал Крылов. – Загремит наша тема.
– Наверное, – сказал Песецкий. – А знаешь, как я вычислил?
– Не гожусь я для этого дела. Не справлюсь.
– Ничего, массы поддержат. Так вот, я вычислил подкорковыми центрами. Включил подсознание!
– Я как представил себе, – сказал Крылов, – так сразу почувствовал, что не могу быть самим собою. Боюсь не то сделать, не так сказать.
– Тогда откажись, делов палата.
Они зашли в комнату, где работали студенты. Песецкий упоенно расписывал свой метод: если какая-нибудь задача не получается, надо заняться другим и включить моторы подсознания. Так поступал великий математик Пуанкаре. Моторы срабатывают, и в один прекрасный миг решение придет само, выскочит на поверхность из темных подкорковых глубин.
– Важно дать задание своему подсознанию, – ораторствовал он, – и дальше можно не беспокоиться.
– А спинной мозг годится? – совершенно серьезно спросил Алеша Микулин.
Крылов стоял у окна, полузакрыв глаза. Потом он сердито сказал:
– Эн должно быть больше нуля. Иначе молнии будут бить с земли в облака.
– Это их дело, – сказал Песецкий, – мое дело – составить уравнение.
– Но оно лишено физического смысла.
– А какой смысл в молнии? – спросил Песецкий. – Ты можешь объяснить? Я полгода бьюсь над расчетом атмосферных помех. Какой в них смысл? Никакого смысла.
Он обнял Крылова и сказал на ухо:
– Брось ты мучиться. Все решится само собой. Всегда все решается независимо от нас.
Утешив таким образом Крылова, он с еще большим воодушевлением принялся излагать всем встречным способы эксплуатации подсознательного мира.
Глава четвертая
Он поднялся по витой железной лестнице на радиолокационную башню. Радисты уехали в поле, и в аппаратной было темно. Сквозь щель жалюзи пробивался солнечный луч, круглый, золотистый, как бамбук. Крылов протянул руку, луч уткнулся в ладонь, и ладонь прозрачно засветилась.
Казалось, этот луч пронзил его насквозь легким теплом, и от этой непривычной ласки Крылову стало жаль себя.
Все эти месяцы после возвращения из командировки он жил в оцепенении, поглощенный тупой, возрастающей тоской. И вот сейчас, когда что-то должно было круто измениться в его жизни, его охватило беспокойство. Он чувствовал, что дело здесь не в предложении Голицына, скорее всего, тут была досада на то, что ему самому предстоит как-то определить себя, видеть себя, действовать. Но и это было не главное, главное же заключалось в тревожном предчувствии и ожидании – чего? Странно, что именно об этом он и не желал думать.
Он осторожно трогал кончиками пальцев осязаемую пыльную поверхность луча. Отломать кусочек и послать вместо письма. Обломок луча в длинной коробочке. Почему она не отвечает? Он знал почему но придумывал другие объяснения.
Он подставил лицо под луч и зажмурился.
– Эх, Натаха ты, Натаха! – сказал он.
В дальнем конце аппаратной послышался смешок. Крылов вздрогнул, пошарил на стене, повернул выключатель.
– Эй! – раздался предостерегающий крик. На ящике сидел Агатов. Руки его шевелились в черном мешке для зарядки кассет. – Чуть не засветили мне пленку. Ну да теперь можно не гасить.
– Простите, – пробормотал Крылов.
Агатов довольно разглядывал его пылающую физиономию. Крылов понимал, что Агатов давно из темноты наблюдал за ним. Лучше всего было немедленно извиниться и уйти, но Крылов продолжал стоять, все более смущаясь, и чем дольше он стоял, тем невозможнее становилось уйти.
– Забыл вас поздравить. – Агатов помолчал, наслаждаясь его беспомощностью. – Как это вам удалось обработать старика?
– Понятия не имею… уверяю вас… – пробормотал Крылов, еще сильнее смущаясь.
– Ну, ну, будете утверждать, что вы ни при чем, – снисходительно сказал Агатов. – Я тут наблюдал, какие вы манипуляции от восторга выделывали.
Крылов тоскливо переступил с ноги на ногу.
– Вот так тихоня! – Агатов покачал головой. – Ловко вы всех здесь обвели. Отдаю должное. А я-то документы приготовил, копии у нотариуса снял. Смешно, верно?
– Ну что вы, что вы, – утешающе повторял Крылов. И вдруг сказал: – Я еще не решил.
Но Агатов не слушал его. Задумчиво и размеренно он продолжал:
– Заметили, как Аркадий Борисович оценил меня? Аккуратен. Исполнителен. Бумажки составляет. А своих, мол, идей Агатов не выдвигает. Вот в чем беда, оказывается. А то, что я его идеи проводил, так это ничто? Если я их полностью разделяю?
Застылая усмешка прочно держалась на его лице, сбивая Крылова с толку. Он не знал, как держать себя.
Ему страсть как хотелось выпалить: «Чего вы ко мне прицепились, ступайте к старику и выясняйте свои отношения», но стыд еще не прошел, и, кроме того, было совестно бить лежачего. Он чувствовал, что Агатов обижен, убит.
– В науке никому нельзя верить, – сказал Крылов. – Старик нас пытается лепить по своему подобию. Это у него непроизвольно. Нам нельзя поддаваться. Ради него же. Тут такая антимония получается. Каждый должен отстаивать свои взгляды…
Агатов прервал его:
– Свою тактику принципами заслоняете? Я вас понял. Думаете, я не знаю, как вы все меня расцениваете?
Его непримиримый смешок сделал излияния Крылова нелепыми. «Какого черта я чувствую себя виноватым?» – возмутился Крылов. Из всех возможных положений он всегда умудрялся выбрать самое невыгодное. Безошибочно. Никто не умел так ловко и быстро попадать впросак, как он.
Привыкнуть к этому было невозможно. Но смеяться над этим он научился.
– Голицын обманул меня. Я знаю, ему наговорили, – сказал Агатов. – Но я это так не оставлю.
Крылов посмотрел на него с любопытством:
– Неужели вы всерьез огорчены? Ведь это всего лишь должность.
– Должность… Нет, Сергей Ильич, для меня это больше должности, – с внезапной резкостью сказал Агатов. Рука его в черном мешке перестала двигаться. – Мне важно признание. Зачем притворяться? Мы же без свидетелей. Конфиденциально. Аркадий Борисович, тот сегодня при всех проговорился. И вы это прекрасно знаете. Хотите, я могу раскрыть скобки? Хотите? – Он наклонился вперед, серые шарики его глаз твердо нацелились на Крылова. – Кое-кто считает, что я не обладаю научными способностями. Вы, например, талант, а я нет. Что, не так? Да вы не бойтесь. Я лично к вам ничего не имею. – Выдернув руки из мешка, он помахал растопыренными пальцами. – Представьте, что я согласился бы с такой характеристикой. – Он поднялся. Губы его задергались, точно сбрасывая эту любезную усмешку. – Что ж мне тогда? Чем я виноват? Не досталось соответствующих генов от родителей, так куда ж мне прикажете? А?
Слегка прерывающийся голос его звучал просто и деловито, глаза смотрели с горечью, но ясно, как будто что-то обнажилось в этом человеке. Крылов никогда не видел такого Агатова, сейчас ему казалось, что этот Агатов и есть настоящий.
– Нет, Сергей Ильич, слишком легко вы разложили… А что как у меня другой талант? Каждому свое… – Агатов вдруг остановился, пристально глядя на Крылова. – Послушайте, вы действительно еще не решили? Зачем вам эта должность? Все равно ничего не выйдет у вас с Голицыным. Он по-своему станет гнуть, вы же сами признаете. А у вас характер, вы маневрировать не умеете. Что ж получится! И дело будет страдать, и себе голову сломаете, и никакой славы. Да, отговариваю ради вас же. Откажитесь, пока не поздно. – Он пытался сдержать свой голос и не мог. – Какой вам интерес? Научное руководство – так тут и без нас обходятся, мы-то с вами знаем. Голицын еще не понимает, ему куда легче со мной будет. И вам легче, всем легче. Он сам скоро жалеть станет.
Крылов доверчиво улыбнулся:
– Так и мне во как неохота! – Он провел рукой по горлу. Агатов заходил вокруг него большими шагами.
– Нет, я все понимаю. Начальник лаборатории – сам себе хозяин. Уходит когда хочет. Не надо ни у кого проситься. Свобода – это существенно. Но я вам гарантирую. За моей спиной вам еще свободней будет. Как мне Голицын стал поручения давать, так меня талантов лишили. Всех начальников всегда бездарными считают. Вас тоже сразу в бесталанные определят.
Крылов устал стоять посреди комнаты и неловко, боком отошел к зашторенному окну.
– Мне кажется, тут другие интересы, Яков Иванович, – деликатно сказал он. – Согласитесь, что необходимо менять тематику. – Агатов энергично закивал. – Нас заедают ненужные мелочи. Старик напирает главным образом на статистику. Вот посадит он вас замерять заряды капель. Пожалуйста, не обижайтесь, Яков Иванович, но, боюсь, в наших лабораторных условиях ничего нового тут не выяснить. А с другой стороны, такой проблемы, как активные воздействия, мы сторонимся.
– Точно! – воскликнул Агатов. – Даже… – на мгновение он запнулся, настороженно взглянул на Крылова, – даже отмахиваемся!
– Старик избегает современной физики. Ну как вы сладите с ним?
– Постепенно, постепенно. Думаете, на него узды не найдется? – К Агатову быстро возвращалась внушительность. – Вам тут нечего беспокоиться. Можно спокойно работать. У вас будет полная самостоятельность, я обеспечу. Насчет тематики – не спорю, но все зависит, как преподнести. Подать мы себя не умеем, вот в чем беда, Сергей Ильич. Те же самые работы так можно обставить, что нас завалят средствами, оборудованием, чем хотите. Поверьте мне, коллективу куда выгоднее, если у начальника никаких своих интересов научных нет. – Он предостерегающе поднял руку. – Знаю, знаю. Знаю, что вам советуют и Бочкарев, и вся его компания. А вы не слушайте. Все они эгоисты. И между прочим, я не осуждаю. Настоящий ученый должен быть эгоистом, иначе он ничего не успеет.
Плоское лицо его влажно блестело. Он работал. Он разворачивал перед Крыловым свои планы, один заманчивее другого. У него все было давно продумано.
Он знал все, что можно было знать о дирекции, о работниках главка, хитрости их взаимоотношений, списки трудов академиков, кто чем увлекается, знал, что с Лиховым проще всего встретиться на концерте в консерватории, что дочь секретарши Денисова работает в пятой лаборатории.
Крылов стеснялся прервать его. Незаметно отодвинув штору, он смотрел вниз на залитую солнцем метеостанцию.
Студенты работали у белых будочек с приборами. Матвеев и Зиночка готовили радиозонд.
«Как бы все могло славно устроиться, – с тоской подумал Крылов. – И можно пойти с ними загорать».
Он вздохнул, откашлялся раз-другой, прежде чем Агатов обратил на него внимание.
– Простите, Яков Иванович, но как-то это все не то, – сказал он.
– То есть как? – оторопел Агатов. – Пожалуйста… У вас условия? Предлагайте…
Крылов поежился, в таких случаях он ничего не мог поделать с собой.
– Не нравится мне, что вы тут наговорили.
– Но ведь всегда можно поладить. Выкладывайте ваши наметки. Я с удовольствием…
Он стал ниже ростом, смотрел на Крылова с робкой готовностью откуда-то снизу.
– Ничего у меня нет, никаких наметок, – признался Крылов.
Агатов вопросительно смотрел на него.
– Матвееву надо бы оклад выхлопотать, – добавил Крылов.
– Я это могу в два счета… – заторопился Агатов. – Нет, вы объясните, что вас держит? Вы против меня имеете что? Я вам никогда ничего плохого не сделал. Чем я не подхожу, чем?
Крылов виновато развел руками.
– Небось сами хотите, – вдруг сказал Агатов, убежденный смущенной улыбкой Крылова и все более уверяясь от его неловкого молчания. – Понятно, зачем же власть упускать! А я-то душу вам открывал…
Крылов опомнился:
– Поверьте, Яков Иванович, вы это с обиды. Я вам благодарен, что вы так откровенно… Мне подумать надо…
Сгорбившись, Агатов вернулся к ящику, взял мешок с кассетами и долго там возился к стене лицом, потом пошел к двери. Обойдя Крылова, он остановился. Лицо его обрело обычную бесстрастную любезность. Опять он был собранный, подтянутый, и отглаженный костюмчик сидел без малейшей морщинки.
– Я хочу как лучше, – сказал Агатов. – Сконтактироваться. – Он сделал все, чтобы любезно улыбнуться.
Железная лестница отзвенела под его шагами.
– Вот и разберись, – озадаченно сказал Крылов, как будто кто-то мог услышать его.
Он печально посмотрел на свои недавно отпаренные брюки – на коленях уже вздулись пузыри… Погасив свет, он уселся на приступку и стал ждать. Но солнечный луч исчез, и прежнее настроение не возвращалось. Необходимость что-то решать злила его. Он не желал ничего решать. В любом случае, соглашаясь или отказываясь, он что-то терял. Но в том-то и дело, что, решая, всегда что-то теряешь.
Не хотелось спускаться вниз и сидеть сейчас рядом с Агатовым. Он словно обжегся, прикоснувшись к обнаженной душе этого человека. На какой-то миг приоткрылось самое сокровенное, в глубине расселины Крылов увидел трепещущее, еще расплавленное, готовое отлиться в любую форму… Кто знает, где и когда совершается поворот человеческой души? Что-то бурлит, соединяется у вас на глазах, достаточно одного слова, и оно вдруг застывает судьбой; Крылов думал о том, что мы сами делаем людей плохими и хорошими.
Разумеется, Бочкарев, и Ричард, и Голицын – они руководствуются самыми высокими принципами, а вот Агатову все это предстает, наоборот, величайшей несправедливостью. Природа обделила его талантом, отсюда обиды, ущемленность, зависть – все, что уродует человека. И как помочь ему? Неужели неизбежна такая несправедливость? Но и ребята правы: к руководству нельзя подпускать бездарных. Но и бездарные никогда не чувствуют себя бездарными. Они не мучаются, они завидуют и злятся. А ведь каждый в чем-то бездарен…