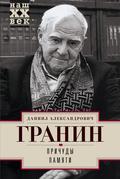Даниил Гранин
Сочинения. Том 2. Иду на грозу. Зубр
Утром Крылов вышел на улицу, содрогаясь от головной боли. У подъезда на мотоцикле сидела гражданка Вельская и улыбалась.
– Эй вы, задрипанный донжуан, – сказала она, – давайте я вас подвезу.
Она привезла его домой, напоила крепким чаем и при этом так улыбалась, что он полетел в институт, задевая прохожих белоснежными крыльями.
Ему дали проверить распределение объемных зарядов. Ему передали целую установку. Ему дали собственный стол, собственный шкаф. Он сидел на высоком табурете, окруженный приборами, включал, выключал, настраивал, сам себе хозяин, кум королю. Что еще нужно для счастья? Говорят, времена ученых-одиночек прошли. Ничего подобного, он работал один, не чувствуя никакого одиночества. Он обсуждал свои проблемы с Лангмюром, Нильсом Бором, Штарком и еще двумя десятками причастных к его работе стариков. Подобралась отличная компания спорщиков и советчиков, правда, чем дальше, тем чаще они разводили руками и отмалчивались.
После первых измерений ему показалось, что картина распределения получится слишком грубой. Он решил уточнить методику. Перебрал несколько сортов нитей подвески. Поставил сверхчувствительный гальванометр. Затем ему пришло в голову автоматически стабилизировать температуру прибора. Учесть искажающее влияние трансформатора…
– Почему вы не учитываете полярных сияний? Заряды кота у сторожихи? – спросил его Аникеев. – Вы больны. Болезнь называется «немогуостановиться». Научитесь себя ограничивать. Получили примерную величину и двигайте дальше. Искать истину в последней инстанции – зряшный труд. И существует ли она, эта последняя инстанция?
Не будь Аникеева, он бы совсем запутался. Чего стоила ему одна лишь битва с компенсатором! Они не поладили с первой минуты – Крылов и компенсатор. Издеваясь над всеми законами, компенсатор показывал, что ему вздумается. Крылов наклонял его, менял лампы, свирепея, тыкал карандашом в подвеску, пока компенсатор не взбесился. Они возненавидели друг друга. Теперь компенсатор назло показывал все наоборот. Крылов разобрал его до винтика, снова собрал; тогда компенсатор пустился на подлость, он прикидывался исправным, но в разгар измерений показывал невесть что, путая все данные.
Пришел Аникеев, ни слова не говоря, примерился и хрястнул панель своим кулачищем так, что компенсатор сразу присмирел и заработал, как будто ничего не было.
Аникеев одолжил импульсный генератор. Аникеев помог найти одну из сорока возможных причин погрешностей. Словно вынюхивая, Аникеев водил по шкалам висячим носом, и его лицо с большой обезьяньей челюстью казалось Крылову воплощением доброты и братства.
Крылов завидовал ему мучительно, стыдно. Чтобы стать мало-мальски приличным экспериментатором, ему не хватало терпения возиться с приборами, характера для войны с механизмом, умения хитрить с начальством, ладить со стеклодувом, недоверия к справочникам, юмора, фантазии, мягкости, твердости, смелости, осторожности… Постепенно выяснилось, что он не умеет работать с вакуумом, ругаться, переводить с итальянского, составлять библиографию. Хуже всего было то, что в институте все от него чего-то ждали.
Его стычки с Аникеевым, назначение были приняты как свидетельство необычного характера. Его робость считали скромностью, замкнутость – сосредоточенностью и даже неумелость оценивали как свежесть ума.
Он чувствовал себя авантюристом, шарлатаном, обманщиком, которого в любую минуту могут разоблачить. Особенно страшен был для него Данкевич. Он старался не попадаться ему на глаза и семинары, на которых выступал Данкевич, подслушивал из хранилища.
Те, кто хотел работать у Данкевича, должны были сдать минимум. Так называемый Дан-минимум, или дань-минимум: комплекс задач и вопросов, придуманных самим Данкевичем. Никаких официальных званий или дипломов за сдачу минимума не полагалось, не выставлялось отметок, ничего нигде не отмечалось, и тем не менее каждый электрофизик считал честью выдержать этот добровольный экзамен.
Данкевичу было все равно, кто перед ним – доктор наук или молодой инженер, – никому никаких льгот. Такое отношение многим маститым не нравилось, но Данкевич не обращал на это внимания.
Молодежь обожала его. Вечно за ним таскался хвост поклонников, подхватывая на лету его замечания, изречения. На семинарах ему принадлежало решающее слово. Не по старшинству, а в силу его редчайшей способности предельно упрощать любую запутанную проблему. И так как эта простейшая модель или идея возникала перед ним раньше, чем перед другими, то если посреди доклада он говорил: «Мура!» – все знали, что ничего не получится.
В чем секрет таланта Данкевича? Были математики способнее его, были физики, которые знали больше, чем он… Аникеев отвечал на это с улыбочкой:
– Очень просто. Дан видит все немножко иначе, чем мы, вот и вся хитрость.
Город, как все большие города, не был оборудован для любви. Повсюду ходили люди, повсюду дул холодный ветер. Сады стояли закрытыми. На мягких от сырости бульварных скамейках сидели старики и няньки. В комнату Крылова сквозь фанерную перегородку доносились каждое слово, каждый шорох.
Из века в век он и она искали уединения и приюта и не находили. Им приходилось удаляться на Луну, на самые дальние созвездия или – когда удавалось купить билеты – в кино. Там темнота укрывала их от всего мира. Там не было ни лиц, ни глаз, только сплетенные пальцы.
Потертая беличья шубка почти не грела. Лена выглядела грустной, усталой, совсем непохожей на ту, с которой он познакомился. Она была ниже его на полголовы, ему хотелось согреть ее, взять на руки.
Они садились в последний ряд, грызли вафли и болтали всякую ерунду. Не будь между ними глупого подлокотника, они чувствовали бы себя совершенно отлично. Не надо было стараться умничать, он говорил что вздумается и мог вести себя свободно, и все же он не решался взять ее маленькую шершавую руку, прижать к щеке, и эта робость была особенно приятна. На экране страдали, произносили какие-то красивые слова, вздыхали. Лена тихонько посмеивалась: дребедень, – и сразу картина превращалась в пародию. Но бывало и так, что Лена усаживала его на место героя в автомобиль, и они неслись по горным дорогам к морю, не обращая внимания на злодея помещика, оставались вдвоем в охотничьем домике, уписывая огромные окорока перед камином…
– Хочу есть, – заявляла Лена. Крылов предлагал пойти в ресторан.
– Послушайте, физик, – говорила она. – Не пижоньте. Вам это не идет.
Они покупали горячие пирожки и съедали их тут же, в гастрономе, запивая томатным соком.
Крылов провожал ее домой. Небо было полно звезд. Ему пришла в голову странная мысль. Он преподнес ее Лене, как преподносят цветок. Никогда раньше он не раздумывал о подобных вещах.
– Не правда ли, интересно, что мы видим Вселенную не такой, какая она есть, а молодой, какой она была много лет назад? Может быть, и этих звезд уже давно нет. Нас окружает прошлое, настоящее – это только мы… А если с дальних планет смотрят на нас, то и они нас не видят. Они могут видеть Октябрьскую революцию. Или как Пушкин едет на дуэль. Какое-нибудь утро стрелецкой казни.
Лена остановилась, поднялась на цыпочки, притянула его голову и поцеловала. Он невольно оглянулся на прохожих, но тотчас устыдился этого движения и сам поцеловал ее солоноватые, пахнущие томатным соком губы.
– Я бы пригласила тебя к себе, – сказала она, спокойно перейдя на «ты». – Но, понимаешь, мамаша, сестренки – не та обстановочка.
Быстрая теплая весна помогала им изо всех сил. Когда темнело, они перелезали решетку Летнего сада и, прячась от сторожа, носились по хрустким, исчерканным тенями аллеям.
Зеленый свет стекал с мраморных плеч богинь. Их белые обнаженные руки слегка просвечивали. Богини были прекрасны, Лена замирала, в восторге задрав голову, зубы ее блестели, а Крылов думал, что самое великое искусство бессильно перед теплом ее жесткой руки, что эта курносая скуластая девушка куда большее чудо, чем все мраморные красавицы.
Лена работала на кинофабрике помощником оператора. Она знала художников, композиторов, запросто командовала знаменитыми артистами – таинственный, незнакомый мир, перед которым Крылов чувствовал себя вахлаком, бесцветным и скучным.
Как ни странно, она словно не замечала своего превосходства, тяготилась его расспросами, но и его дела нисколько ее не занимали, ей доставляло удовольствие болтаться по городу, носиться на мотоцикле, встревать в уличные происшествия, грустить, озорничать. Она словно вырывалась на волю и затевала шумную, неутомимую игру, умея извлекать отовсюду удовольствие.
– Сегодня самый счастливый день в моей жизни, – заявляла она.
– Позавчера ты говорила то же самое.
– Позавчера уже нету. И завтра нету. Есть сегодня. И надо прожить его так, чтобы оно было самым счастливым.
Она никак не покушалась на его время. Когда он однажды задумался и начал заносить в блокнот какую-то схему, Лена незаметно исчезла. Без всякой обиды. С тех пор она только предупреждала: «Если тебе надо заниматься, ты не стесняйся. Хуже нет, когда парень таскается по обязанности». Его это устраивало и тревожило. С такой же легкостью она вообще могла вдруг исчезнуть.
Чем-то она напоминала ему Тулина. Легкостью? Жизнелюбием? Непонятно, почему она относилась к Тулину равнодушно.
– Наверное, мы слишком одинаковы. Это всегда скучно, – ответила она и, прищурясь, оглядела его новый галстук, разрисованный пальмами. – Чего ты стиляешь? Лучше бы купил себе ботинки.
Он было огорчился, но Лена обняла его за шею.
– Чудик! Ты мне понравился таким, и нечего пыжиться. Все равно Тулина тебе не переплюнуть. Ты из породы лопухов.
Она твердо установила товарищеский порядок – когда у него не было денег, платила она, и никаких церемоний. Откровенная наотмашь, она презирала условности. Вначале это коробило его.
– …Таскался за мной один парень. Ужасный интеллигент. Однажды гуляли мы долго, я смотрю, чего-то он жмется, потеет. «Может, тебе в уборную надо?» – спрашиваю его. Так он на меня обиделся. Стыдить начал и все жует какую-то резину насчет сюрреалистов. Наконец вижу – заговаривается. Отпустила я его. А он как дунет в первую подворотню! Вот тебе и сюрреалисты! У меня, значит, грубость, низменное восприятие, а то, что он три часа ходит со мной и только думает про подворотню, – это поэзия, рыцарство.
В ее веселом вызове условностям было и нечто серьезное. Как-то она призналась:
– От красивых слов у меня оскомина. Представляешь, целый день репетируем всякие фразы. Сперва режиссер, за ним помощник, затем звукооператор, потом артисты – все повторяют, добиваются естественности. Слышать не могу! Выругаешься – и вроде горло прочистила. Такие правильные слова, как уже кем-то обсосанные карамельки в рот кладут. А ведь когда-то они были чистые и хорошие, эти слова, и, наверное, волновали.
В тот год весна двигалась с юга со скоростью семидесяти километров в сутки. Ее стремительный шаг подгонял Крылова. Работа вдруг покатилась быстро и легко, как со склона. На столе появились пачки фотографий для отчета. В журнале «Техническая физика» опубликовали его статью. Крылов подарил оттиск Лене.
Запинаясь на каждом слове, она попробовала читать: «Релаксация… флуктуация… Конфигурационное пространство». Кошмар какой-то, неужто он все это знает? Она посмотрела на него с восхищением, словно впервые увидев. Так, значит, он настоящий физик? Признаться, она подозревала, что он заливает ей, в лучшем случае лаборант или механик.
Она потащила его на вечер в Дом кино и гордо представляла своим знакомым: физик! Бойкие, языкастые красавцы разговаривали с Леной о каких-то павильонах, сценариях, вырезанных кадрах, весело ругали какого-то режиссера, называя его «подлецом запаса», и Крылов глухо ревновал Лену, уверенный, что каждый из этих пижонов должен казаться Лене куда интереснее его, и не понимал, зачем же она возится с ним, зачем он ей.
Внезапно издали, поверх толпы, гуляющей в фойе, он увидел взлохмаченную, тронутую сединой шевелюру.
– Смотрите, смотрите, Данкевич! – восторженно зашептал он.
Кто-то обернулся, кто-то протянул:
– А-а-а!
Молодой режиссер спросил:
– Это что за птица?
– Как, вы не знаете Данкевича? – изумился Крылов. Выяснилось, что никто понятия не имел о Данкевиче. Молодой режиссер, блистая эрудицией, составил дикую окрошку из Эйнштейна, Ферми, Денисова, атомной бомбы, античастиц и Тунгусского метеорита.
Крылов был потрясен. При чем тут античастицы? При чем тут Денисов? Знать Денисова и не знать Данкевича! Почему никто не видит сияющего нимба вокруг головы Дана? Люди должны расступаться и кланяться. Среди нас идет гений, человечество получило от него куда больше, чем от всех этих кинодеятелей, вместе взятых.
– По-твоему, мы должны носить его портреты на демонстрациях? – сказала Лена.
– Может быть. Это справедливей, чем продавать фотографии киноартистов в каждом газетном киоске.
– Что он сделал, ваш Дан? – спросил режиссер.
– О, Дан! – восторженно воскликнул Крылов. – О! Дан! – Он перечислил несколько работ. Маленькие статьи по пять-десять страниц.
– И только! Но это же вроде твоей, – сказала Лена. Крылов рассвирепел:
– У меня тоже два уха, ну и что ж с того? Он гений, а я ничто. – И он закатил им такую речь про Дана, что все притихли.
По дороге в зал Лена шепнула:
– Ты был великолепен! Но все же у твоего Дана шея как у ощипанного гуся.
Они чуть не разругались. Вышучивать великих людей легко, но от этого сам не становишься выше. Зато некоторые восхваляют великих людей, чтобы просиять в их свете. Зато другие… Вообще непонятно, зачем этим другим другие. Разумеется, другие не пишут научных статей… Через десять минут они договорились до полного разрыва и потом никак не могли вспомнить, с чего это началось.
В конце вечера Лена сказала:
– А знаешь, в твоем гусе есть что-то такое…
Крылов был счастлив. Однако «ощипанная шея»… Как это он не замечал, что у Дана действительно длиннющая шея в пупырышках?
Последний год Дан занимался исследованием электрической плазмы. Задача вызывала противоречивые толки. Связь с электрическим полем Земли? А кому это нужно? Слишком абстрактно, вероятность успеха мала, практический эффект неясен.
Самого Дана соображения о риске или удаче нисколько не волновали. Как-то на семинаре он сказал фразу, которая поразила Крылова:
– Надо делать то, что необходимо тебе самому, тогда не страшны никакие ошибки или неудачи.
Этот человек жил где-то на сияющей вечным снегом вершине, куда не доходили обычные людские страсти и тревоги. Вероятно, тогда на Крылова действовало идущее от Лены хмельное ощущение легкости и возможности самого невероятного. Конечно, то была самая идиотская, нелепейшая просьба, но таков был Крылов. Обдумывать свои поступки?.. Для этого он соображал слишком медленно. Он сказал Дану:
– Я бы хотел работать с вами. Неизвестно почему, но Дан согласился:
– Ну что ж, давайте.
Он сказал это спокойно, как будто речь шла о прогулке, и Крылов поднялся в воздух, не успев уловить мгновения, когда отделился от земли. Собственная дерзость удивила его много позже, в разговоре с Тулиным. Выслушав скептические доводы Тулина (пропала твоя молодость, первые результаты получите через много лет, и то в лучшем случае), он спросил всего лишь:
– Почему ж ты не поспоришь с Даном? Тулин засмеялся:
– Когда я не прав, я могу любому доказать, что я прав, но будь я трижды прав, Дан убедит меня, что я не прав.
Аникеева огорчила измена физике радиоактивных частиц. При всем уважении к Дану, то, чем занимался Аникеев, было, как всегда, единственно стоящей, самой обещающей, самой увлекательной из возможных тем, и только чудак мог уходить из его лаборатории, да еще накануне пуска новой аппаратуры. Крылов беспечно помахал ему рукой. Самолет набирал высоту. Оставайтесь на земле с вашим здравым смыслом, заботами о результатах и прочими благоразумиями.
Он улетал в страну своего будущего, пронизанную электрическими бурями и вихрями, навстречу полярным сияниям, грозам, шаровым молниям, в непознанный хаос, окружающий Землю. Все эти годы он просто путешествовал среди созвездий, и вдруг он обрел свой собственный Млечный Путь.
Выбор казался ему почти необъяснимым, как любовь; из тысяч возможностей его пленила единственная, и надолго, может быть навсегда.
Он умел разгонять потоки ионов, собирать объемные заряды, сводить электроны в тончайший пучок, заставлять их двигаться по любой кривой. Частицы, из которых состоял он сам, Дан, любой человек, Вселенная, – эти частицы подчинялись ему, он измерял их заряды, массы, скорость, он делал с ними все, что хотел.
Но эта власть никак не помогала ему в отношениях с Леной. Лена могла исчезнуть в любую минуту, и он понимал, что ему нечем ее удержать. Она жила в другом измерении, на другой планете, там не действовали обычные скрепы. Он мог работать с Даном, он мог сделать любое открытие, стать почетным членом Французской академии наук. «Потрясающе, – сказала бы Лена, – поехали на концерт Рихтера». Мир его увлечений был каменистой пустыней, в которой она не могла пустить корней.
Тайком от Лены он пробовал читать журнал «Искусство кино»; овладев звучными терминами, он пустился в рассуждения. Вроде получалось, однако Лена прищурилась:
– Прошу тебя, не нужно. Дай мне хоть здесь отдохнуть от этой болтовни. Лучше рассказывай про свои заряды. Послушай, я выучила песенку – закачаешься.
– Ты не любишь свою специальность?
– И да и нет. – Она задумалась. – Вернее, люблю, только от меня одной мало что зависит. Мы ведь связаны веревочкой. Как бы я ни тянула, хорошей съемкой картину не спасешь. Вот наш художник, талантливый парень, лихие макеты сделал. Ну и что? Картина все равно дрянь. Дрянь сценарий, слабый режиссер. И пропали все старания художника. Все враспыл, в песок, впустую… Ты мне как-то толковал про всеобщий закон сохранения энергии. Почему у нас этот закон не действует? Какой же он всеобщий? Куда девается наша работа, когда картина паршивая? Может, в пробирках твой закон действует, а для жизни он не подходит.
Никогда он не видел ее такой серьезной и грустной.
– Зато когда у вас картина хорошая, то все затраты окупаются. Люди смеются и плачут, вы заставляете миллионы думать над жизнью…
– И что меняется? В школе мне казалось, что если люди прочли «Дон Кихота», Чехова, Толстого, то никто больше не может делать гадости…
Провал своей картины она воспринимала всем сердцем, так что и прошлое, и будущее, все человечество обрекались на безысходную печаль. Он обнял ее и сказал решительно и быстро:
– Я тебя люблю. Ты слышишь? Она серьезно кивнула.
– Лена, давай будем вместе? Почему ты не хочешь, чтобы мы были вместе?
Еще не кончив, он почувствовал, как что-то произошло, словно она выскользнула из-под его руки и очутилась далеко-далеко. С разгона он еще мечтал что-то насчет комнаты, как они поселятся, купят… а она уже ласково смотрела на него с другой планеты.
– Зачем торопиться? Не связывай себя. Все это тебе только помешает. У тебя сейчас самая трудная пора, ты сам говорил, как тебе нелегко тянуться за Даном. Подожди. Разве нам плохо сейчас?
– Плохо. Мне плохо. Я не могу без тебя.
– Так я с тобой. Считай, что я твоя жена. Сережечка, ты любишь компот? Твоя Леночка, твоя кошечка, сварит своему пупсику компотик. – Она прыснула, вскочила, побежала на кухню, и опять все стало игрой.
Вскоре ему дали комнату. Лена приходила, нацепляла передник, мыла, чистила, без конца переставляла кушетку, книжный шкаф, иногда оставалась на несколько дней, но переезжать отказывалась.
Зыбкость их отношений все сильнее мучила Крылова. С ней было весело, неожиданно и пугающе непрочно. Никогда нельзя было быть уверенным, вернется она назавтра, через месяц или через много лет. Реальностью оставался только ее уход. Казалось, она была уверена, что и для него это, в конце концов, только веселая игра, с поцелуями, объятиями, сумасшедшей ездой на мотоцикле. Игра, которая могла зайти как угодно далеко и все равно осталась бы лишь игрой.
Однажды, выведенная из себя его настойчивостью, она вскочила с постели и ушла. Было два часа ночи. Крылов оделся, схватил ее подарок – керамическую вазу с цветами, швырнул в мусоропровод и отправился гулять.
К рассвету он твердо установил для себя, что любовь – слабость, недостойная мужчины, радость работы выше и чище любых сердечных страданий. Земля электризуется от внеземных источников, у Лены толстые ноги, отношения полов сводятся к физиологии, он ничтожество, никому не интересен, она абсолютно права, он уедет, и она поймет, кого потеряла, женщин надо презирать.
Все, что было до сих пор, было цветочками. Только теперь он начал постигать, что значит настоящая работа, какие изнуряющие поиски скрыты за вроде бы беспечным трепом теоретиков. Группа работала с Даном уже несколько месяцев, Крылову пришлось догонять. Поспеть заходом мысли Дана было невозможно. Крылов то и дело застревал, спотыкаясь о сжатые до предела формулировки, Дан двигался огромными прыжками, и Крылов изнемогал, пытаясь восстановить связь в его рассуждениях, и со стыдом чувствовал, как Дан терпеливо поджидает отстающих.
Время от времени они собирались в кабинете Дана обсудить состояние работ. Полтавский, молодой расчетчик, страшный формалист и при этом любящий щегольнуть цинизмом, неистовствовал: Крылов заставил его трижды пересчитывать результаты; оказалось, что расхождение получается из-за слабого экранирования.
– А откуда я знал? – огрызался Крылов. – От твоих уравнений можно ждать чего угодно.
Полтавский горестно обратился к Дану:
– Посмотрите на этого параноика. Он не признает математики. Она для него не существует. Если на то пошло, то я докажу, что он сам не существует.
– Когда вы с этим справитесь, подсчитайте тепловой баланс нового режима, – спокойно сказал Дан.
Нового режима! Это значит, придется перемонтировать всю установку. С высоты его Олимпа все старания Крылова над тем, чтобы впаять какую-нибудь медную трубку, не охлаждая стекла, – жалкая возня.
– Сколько можно возиться с этой мурой? – искренне недоумевал Дан. – Неужели с самого начала нельзя было как следует заэкранировать приборы?
Новые экраны не помогли. Пришлось поставить безискровые моторы. Но затем стало не ясно, допустимо ли моделировать явления в таких масштабах. Дан подсчитал условия, при которых модель правомерна. Модель потребовала исследования на устойчивость процесса. Усилитель не справлялся с малыми сигналами. Заказали специальный усилитель радиоинституту, там попросили подробных технических условий, разрешения министра и права в любую минуту вызывать Дана на консультацию в течение ближайших десяти лет.
И вот наконец, когда все было переделано, отлажено, измерено, то обработка результатов показала, что для переноса одного иона требуется усилие примерно семидесяти пяти паровозов, что электрон занимает объем не меньше двухэтажного особняка и все живое на Земле должно чувствовать себя как человек, сунувший пальцы в электрический штепсель.
И снова они сидят в кабинете у Дана, устало издеваясь над итогами двухмесячной горячки. Исходные предпосылки неверны. Формулы нелепы. Теория абсурдна. Налаженная аппаратура – хлам. Все выбросить. Все сначала. Где начало? Нет ничего, голое место. Закон сохранения энергии. Тупик… Боги… А где гарантия?..
Дан невозмутимо рылся в таблицах, расспрашивал, как будто ничего особенного не произошло. Удрученные, они побрели обедать, оставив его одного, обсуждая дорогой, почему Маяковский застрелился.
Крылова вызвали из столовой к Дану.
– Вас к телефону, – сказал Дан. Крылов взял трубку.
– Сережа, ты что, болен? – услыхал он голос Лены.
– Н-нет.
– Почему ж ты вторую неделю не звонишь? Не стыдно?
Невинность ее возмущения не вызывала сомнений. Крылов вспомнил, как она уходила, треск яростно натягиваемых чулок, голое плечо, блеснувшее у окна, и вздохнул.
– Я думал…
– Ты слишком много думаешь. И все о себе. Все твои слова – вранье.
– Понимаешь, сейчас…
– Я хочу тебя видеть.
– Я тоже.
– Пошли сегодня в Филармонию?
– Хорошо.
– Где встретимся?
Он беспомощно посмотрел на Дана.
– У входа.
Дан рассеянно сморщил переносицу, поднялся и пошел из кабинета.
– Ты что, с ума сошла! – закричал Крылов. – Ты знаешь, куда ты позвонила?
– Мне сказали, что ты у Дана. Я ему все объяснила, по-моему, он понял.
Дан стоял в коридоре и грыз карандаш. Крылов, опустив голову, хотел проскочить мимо, но Дан остановил его:
– Поздравляю!
– Простите меня…
– Нет, нет, это же прелестно! Абсурд – вот чего нам не хватало! Самое ценное в исследованиях – это найти абсурд. И мы нашли! Абсурд таит всегда принципиально новые вещи.
Приставив к груди Крылова мокрый конец карандаша, он принялся развивать способ «ущучивания» истины. В хаосе полученных нелепостей из тысяч, миллионов возможностей он учил искать тот единственный, решающий вопрос, который следовало поставить природе. Следить за его мыслью было удовольствие, но изнурительное.
Ничто не могло отвлечь его, заставить считаться с усталостью, неудачами, людские слабости проходили словно насквозь, не затрагивая его сущности. Он скорее удивлялся им, чем сочувствовал.
Чего бы не дал Крылов, чтобы стать таким же!
И все же тайное разочарование, крохотное пятнышко ржавчины появилось в его душе.
Бесспорно, Данкевич – гений, и гению разрешено многое, даже заблуждения, но в итоге-то у него все должно получаться красиво, эффектно и быстрее, чем это можно было бы ожидать.
Савушкин грозился бросить все к чертовой бабушке. Он не может позволить себе роскошь мучиться два-три года, чтобы получить отрицательные результаты. Ему нужно защитить диссертацию. У него семья, дети. Ему нужна тема-верняк. Крылов не возражал ему.
Требовательность Дана не знала предела. Поставить более тонкий эксперимент. Еще тоньше. Отделить влияние магнитного поля, влияние фотоэффекта, рентгеновского излучения…
По прошествии двух недель стало ясно, что подготовка методики займет не месяц, а полгода, затем Дан подбросит дополнительные условия, и тогда срок отодвинется лет на полтораста. После чего, окончательно установив ошибку, Дан преподнесет следующий гениальный вариант.
Полтавский меланхолично смотрел в окно; на улице бушевало пыльное городское лето, с мороженым, газированной водой, стуком женских каблуков. Люди уезжали на дачи, лежали на пляже, покупали цветы, целовались, женились, рожали, и никому не было дела до того, что пять человек пропадали в лаборатории, не видя света белого.
– Неблагодарные скоты, – взывал к прохожим Полтавский с высоты третьего этажа. – Неужто вас не волнует природа электрического поля Земли? Мы же стараемся для вас, а вы, вместо того чтобы стоять толпами у подъезда и ждать результатов, отправляетесь ловить рыбу!
В конце июля газеты напечатали сообщения о работах академика Денисова по уничтожению грозы. Приводилось описание, как с помощью радиоактивных излучений управляли грозой.
Крылов с восторгом прочел заметку вслух.
– Денисов? – переспросил Полтавский. – Ну-ну.
– Что значит «ну-ну»?
– Междометие.
Крылов обеспокоенно подумал о Тулине, который занимается вопросами активного воздействия на грозу. Но тут же подумал, что тревожиться о Тулине нечего. Дела Тулина шли блестяще, и иначе они идти не могли. Тулин защитил диссертацию. Профессор Чистяков болел, и Тулин в своем НИИ фактически руководил работами отдела. Тулин публиковал научные работы (слишком часто, по мнению Дана); Тулин состоял членом какой-то комиссии. Тулина любили, хвалили, упоминали, сам Дан считал его одним из интереснейших молодых.
Посреди июля Дан объявил вместо отпуска неделю благородной праздности, и всем скопом они махнули на Рижское взморье. Крылов уговорил поехать с ними Лену. Они валялись на песке, купались и говорили о чем угодно, кроме физики. Дан оказался великолепным резчиком по дереву; из старых корней, валявшихся на пляже, он вырезал фантастических животных. Лене он подарил взлетающую по ветке лисицу. Вообще они с удивлением обнаружили, что Дан уважает гуманитарные науки и никак не разделяет их пренебрежения ко всяким эстетикам, этикам и прочим бесполезностям. Наоборот, он даже считал, им оставлено слишком малое место в жизни. Происходит то же, что с лесами: человечество бездумно вырубает леса, начинается эрозия почвы, остаются бесплодные камни, и никто не задумывается над пагубными последствиями насилия над природой только лишь потому, что последствия эти не оборачиваются против самих нарушителей, страдают потомки.
– Но я могу быть ученым и порядочным человеком, не слушая музыки, – возражал Полтавский.
– Вы – да, а общество – нет, – говорил Дан. – Что, по-вашему, отличает людей от животных? Атомная энергия? Телефон? А по-моему, нравственность, фантазия, идеалы. Оттого что мы с вами изучим электрическое поле Земли, души людей не улучшатся. Подумаешь, циклотрон! Ах, открыли еще элементарную частицу. Еще десять. Мир не может состоять из чисел. Не путайте бесполезное и ненужное. Бесполезные вещи часто самые нужные. Слышите, как заливаются эти птахи?
С ним не боялись спорить, он побивал умом, логикой, а не властью и авторитетом.
На третий день в центральной газете они прочли интервью Денисова. Академик заявлял, что вопросы управления грозой теоретически решены, первые же испытания прошли успешно, остается довести технические детали.
– Еще один блеф, – сказал Дан.
Он заметно расстроился и в тот же день собрался в Ленинград, за ним уехали остальные.
– Я свое догуляю, – сказал Крылов. – Шут с ним, с Денисовым, нас-то это не касается. Чего вы заполошились?
– Ну-ну, – сказал Полтавский. – Жил-был у бабушки серенький козлик.
Проводив ребят, они с Леной махнули автобусом в Эстонию. Утром на какой-то остановке Лена вдруг сказала: «Сойдем, а?» Они выпрыгнули из автобуса и очутились в спящем чистеньком игрушечном городке с башнями, крепостными стенами, поросшими акацией. На древней ратуше лениво били часы, по сырой, выложенной красными плитками мостовой ехали к рынку женщины на велосипедах.
Навсегда запомнилось нежное тепло этого утра, базар, полный цветов, скользкие голубоватые пласты холодной простокваши, которую они пили прямо из горшка, зеленый холм, откуда открылись островерхие, красной черепицы, крыши городка, и дальние мызы, сложенные из дикого камня, и озеро с вышкой, где на упругой доске высоко подпрыгивала загорелая девушка.
Для Лены незнакомый город был начинен неожиданностями. Волнуясь, загадывала она, что сейчас откроется за углом. Вдруг они выходили на площадь, и перед ними взметывались в небо сталагмиты огромной готической церкви из багрового кирпича. Внутри храма было холодно, светили цветные витражи высоких окон, гремел орган так, что вибрировало в груди.