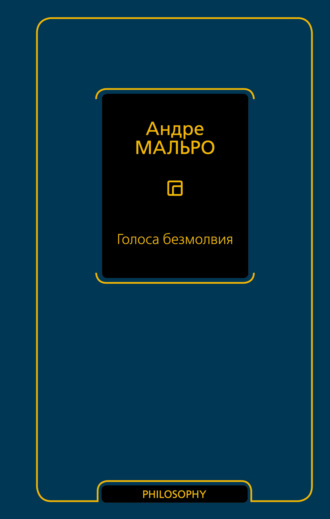
Андре Мальро
Голоса безмолвия
V
Разрыв между романтической и классицистической литературой не имеет аналога в живописи, если не считать Гойю, глубокое влияние которого проявится позже. Романтики восставали против литературной эстетики классицистов, более или менее признаваемой всей Европой XVII века, а также против созданных в этой эстетике произведений; но художники, так же возражая против нее, не оспаривали ценность великих произведений, созданных в пору ее царствования (и гораздо меньше, чем трагедия, от нее зависимых). Они их продолжали. Расин «соответствует» Пуссену. Но кто соответствует Халсу, Веласкесу, Рембрандту? Все трое, как и Пуссен, ушли из жизни с 1660-го по 1670 год. Франция в то время диктовала законы в области литературы, но не живописи. Искусство, современное литературному классицизму, – это не живопись в стиле классицизма, а великая масляная живопись, продолжательница римской, особенно венецианской традиции XVI века, которую она углубила. Жерико, Констебл и Делакруа занимают в музее свое место наряду с их великими предшественниками. Романтизм в живописи, в гораздо меньшей степени противостоящий широко понимаемому классицизму, нежели неоклассицизму в узком смысле слова, – это не стиль, а школа. Чтобы произошел разрыв живописной традиции, подобный тому, какой в начале века осуществили в литературе великие поэты, понадобилось дождаться появления Мане.
От своих первых полотен он переходит к «Олимпии», от «Олимпии» – к «Портрету Клемансо», от него – к «Бару в “Фоли-Бержер”»; точно так же живопись совершает переход от музея к современному искусству. И ведет нас к тому, что, как нам кажется, новый музей позаимствует из прошлой традиции; задавать в нем тон будут те, кто присутствовал при его рождении, и в первую очередь, разумеется, Гойя.[7]
Гойя предчувствует появление нового искусства, но живопись не является для него высшей ценностью: она воплощает крик ужаса человека, покинутого Богом. Как великое христианское искусство связано с верой, ее внешняя красочность, никогда не случайная, связана тысячелетними коллективными чувствами, которые современность предпочитает игнорировать. «Третье мая 1808 года в Мадриде» – это вопль Испании; «Сатурн, пожирающий своего сына» – древнейший вопль мира. Его фантасмагории берут начало не в альбомах итальянских каприччио, а на дне души испуганного человека; подобно Юнгу и большинству поэтов-предромантиков – плюс гений – он дает право голоса темным силам. Его современность [8]заключается в свободе его искусства. Даже если его палитра не принадлежит Италии, она не совсем чужда музею: «Третье мая…» и «Похороны сардинки» – это чистый Гойя, но стоит сравнить разные варианты «Мах на балконе» с «Куртизанками» Мурильо… На основе его творчества, как и на поэзии Гюго, можно составить современную антологию, хотя совсем другой направленности. Вместе с его живописью и страстью к Веласкесу вскоре появятся последние работы Франса Халса (возможно, руки его регентш – это первый по-настоящему агрессивный признак современности); вместе с его рисунками – наброски, в которых постаревший Тициан решительно ломает непрерывную линию флорентинцев и римлян; наконец, приходит Рембрандт. Эту преемственность более или менее явно продолжат отдельные работы венецианцев, испанцев, английских портретистов (Вермеер, вопреки мнению Торе, станет в этот ряд позже), а также Гро, Жерико, Делакруа, Констебла, Тёрнера, Курбе и даже Декана и Милле…
Но мы больше задумываемся об интонациях этих мастеров, чем о том или ином конкретном произведении, потому, что часто они что-то нам рассказывают. А главная особенность современного искусства заключается в том, чтобы ничего не рассказывать.
Чтобы родилось современное искусство, искусство фикции должно было умереть. Пусть даже в конвульсиях. XVIII век знаменует агонию исторической живописи, хотя только она – наряду с портретом – имела право занимать видные места в галереях. Ничто не в состоянии удержать сползание живописи – через грезы и балеты Ватто – к жанровой сцене и натюрморту, к Шардену, к полуодетым персонажам Фрагонара («Вывеска лавки Жерсена» – это жанровая картина). С появлением Давида, Гро и, наконец, Делакруа она делает резкий зигзаг, но затем все замирает. Делакруа со своими баррикадами и Мане со своим Максимилианом пытаются, каждый в свою очередь, вдохнуть жизнь в исторический сюжет, но Мане не сумеет избавиться от «Расстрела императора Максимилиана». Курбе не желал писать то, что писали предшественники, потому что не хотел ничего рассказывать; но он хотел показывать, и по этой причине в наших глазах он принадлежит к старому музею; вытесняя сюжеты Делакруа «Похоронами в Орнане» или «Мастерской художника», он борется против музея так же поверхностно, как Бёрн-Джонс, повторяющий сюжеты Боттичелли, и его гений в этом вытеснении не участвует. Сюжет должен исчезнуть, потому что появляется новый сюжет, отменяющий все предыдущие: доминирующее присутствие самого художника. Чтобы написать «Портрет Клемансо», Мане потребовалось дерзнуть и стать в этом портрете почти всем, не оставив на долю Клемансо почти ничего.
Имя Мане – несмотря на то, что своим творчеством он частично обязан младшим собратьям, несмотря на величие его старшего предшественника Домье – приобрело символическое значение. Именно на его выставках вспыхнул конфликт, ознаменовавший зарождение современной живописи, вышедшей из подполья и во всеуслышание провозгласившей свои ценности. Судя по всему, Домье, как и многие другие художники, не до конца понимал важность своего искусства. Человек в нем робел перед гением творца; он в большей степени писал для себя, нежели для потомков. Подобно Гойе, Домье принадлежит и к музею, и к современному искусству. Его полотна на народные сюжеты («Прачка», «Суп») – это ни в коем случае не бытовой рассказ; трудности народной жизни преображаются его искусством так же, как они преображаются в сочинениях историка и его друга Мишле. Его иллюстративные сюжеты («Два вора», «Дон Кихот») – это ни в коем случае не иллюстрации; его голландские сюжеты (все эти игроки и любители эстампов и живописи) так мало привязаны к конкретному месту, что почти не замечаешь, что они «голландские», – зато не можешь не видеть широты стиля, безразличия к иллюзии и явно современного схематизма. Впрочем, современники, отвергая любые иные ценности, кроме ценности живописи, откажутся принимать его за своего: им не позволит это сделать самая природа их гармонии.
«Расстрел императора Максимилиана» Мане – это «Третье мая…» Гойи (за вычетом смысла картины). «Олимпия» – это «Обнаженная маха»; «Балкон» – «Махи на балконе» (за вычетом смысла обеих картин Гойи); посланницы дьявола обернулись невинными портретами. Прачку Мане мог бы написать Домье – за вычетом смысла, который последний вкладывал в свое полотно. Мане пытался придать живописи направление, отбрасывающее эти смыслы. Одновременно с этим у него шел процесс создания диссонирующей гармонии, которой будет отмечена вся современная живопись. «Шахматисты» Домье вряд ли несут большую смысловую нагрузку, чем большинство картин Мане, но на их лицах все еще читается некоторое выражение, и не случайно Мане – в первую очередь великий автор натюрмортов. Гармония «Шахматистов», при всем мастерстве художника, созвучна системе музея. Но то, что внес Мане, – не то чтобы лучшее, но непримиримо иное, – это зелень «Балкона», розовое пятно пеньюара в «Олимпии» и малиновое пятно на корсаже в маленьком «Баре в “Фоли-Бержер”». Темперамент и давление музея, от которого он не вполне освободился, заставляли его вести поиск в коричневой испано-голландской гамме, но не для изображения теней, противопоставляя ее светлой гамме, но не для изображения света; он свел традицию к удовольствию от письма. Затем сближение красок, постепенно освобождающихся от коричневых тонов и глянца, обрело собственную силу. «Лола из Валенсии» – еще не вполне «розово-черное украшение», но «Олимпия» приближается к этому состоянию; а в «Черных мраморных часах» Сезанна часы будут уже по-настоящему черными, а большая раковина – по-настоящему розовой. Из этого нового согласия красок между собой, сменившего гармонию светлых и темных тонов, родится техника чистого цвета. В музее темные тона были представлены не средневековым гранатом, а тенями и глубиной «Мадонны в скалах». Тени оказалось достаточно, чтобы смягчить довольно грубый диссонанс в живописи испанского барокко. Вместе с тенью исчезали эти тона: диссонирующее согласие, пока еще робкое, готовило возрождение двухмерной живописи. От Мане до Гогена и Ван Гога, от Ван Гога до фовистов, триумф этого диссонанса будет только возрастать, завершившись открытием рубленых статуй на островах Новые Гебриды… В эпоху, когда чистый цвет умирал в народной скульптуре и лубке, он просочился в рафинированную живопись, словно принявшую таинственную эстафету. Именно она самым радикальным образом изменит музей.
Что в то время хранил музей? Античное искусство, и больше римское, чем греческое; итальянскую живопись начиная с Рафаэля; великих фламандцев, великих голландцев, великих испанцев начиная с Риберы; французов начиная с XVII и англичан начиная с XVIII века; Дюрера и Гольбейна – немного на обочине, как и некоторых раннехристианских мастеров.
В основном это был музей масляной живописи. Живописи, для которой главной задачей было покорение третьего измерения, а союз между иллюзией и художественной выразительностью подразумевался сам собой. Логика этого союза предполагала стремление передать не только форму предметов, но также их материал и объем (характеристики, чуждые всем видам незападного искусства), иначе говоря, воздействовать одновременно на зрение и осязание. Пространство в этой логике следовало изображать не как бесконечность, что делали художники эпохи Сун, а заключать его в раму, помещая в нее предметы, как рыбок в аквариум; отсюда – поиск особого света и освещения: с тех пор как люди начали писать картины, во всем мире только Европа отбрасывала тени… Наконец, помимо воздействия на зрение и осязание, она включала и знание: раннехристианские мастера выписывали на далеко отстоящем дереве каждый листик не потому, что так видели, а потому, что знали: на дереве есть листья. Отсюда – детализация глубины, неведомая ни одному другому искусству, кроме нашего.
В поисках этого союза, который, казалось, рушился всякий раз, как только был достигнут, западная живопись совершила немалое число открытий: мы показали, что фреска Джотто была более «похожей», чем фреска Каваллини, что Боттичелли писал более «похоже», чем Джотто, а Рафаэль – более «похоже», чем Боттичелли. XVII век – в Нидерландах и в Италии, во Франции и в Испании – бросил весь свой гений на продолжение этого поиска, симптомом и мощным средством которого стало всеобщее использование масляной живописи. Художники научились передавать движение, свет, материал; они открыли перспективу, светотень и искусство писать бархат; и все эти находки мгновенно становились общим достоянием, как на наших глазах им стали съемка с движущейся камеры или ускоренная съемка в кино. Каждый раз, когда живопись изображала фикцию, она, как и театр, превращалась в зрелище. Отсюда идея о том, что союз искусства и иллюзии – это лучшее средство выразительности и демонстрации качества, как в случае того, что принято называть античным искусством. Отсюда же общепризнанная подчиненность изобразительных средств тому, что изображается.
Но, помимо готического искусства, из которого романтизм позаимствовал только его драматический накал и выразительность, XIX век начинает открывать для себя Египет, Евфрат и фрески предшественников Рафаэля. Он открывает тосканское искусство, двигаясь во времени вспять: от XVI века к XV, от XV – к XIV (в 1850 году Боттичелли еще считается раннехристианским художником). Ему кажется, что он открывает сюжеты и рисунок – из чего родятся прерафаэлиты, но на самом деле он открывает двухмерную живопись.
Разумеется, в Средние века хорошо знали фламандцев, но, восхищаясь их колоритом, сокрушались, что рисунок до него не дотягивает. Особенно у поздних фламандцев, которых невольно сравнивали со скульптурой, с которой тогда постепенно начали знакомиться, включая романское искусство. Их палитра занимала в музее больше места, чем то, что ей противостояло. Неподвижность Королевского портала Шартрского собора приближала его к двухмерной живописи, от которой ван Эйк и Рогир ван дер Вейден отдалялись благодаря своей относительной глубине, скрупулезности и колориту.
Поначалу казалось, что соперничество титанов, столкнувшее голландца Рембрандта с испанцем Веласкесом, из области географии переместилось в область истории, однако различия между первым и вторым были несравнимо меньше, чем то, что отличало обоих от египетской или романской статуи, возможно от Джотто и наверняка – от Византии. Тогда заговорили о стиле.
Легче всего понять смысл нового понятия стиля на примере византийского искусства (готика и особенно романское искусство поначалу воспринимались как драматизированное византийство) благодаря резкости его черт. Византийский художник не видит мир в византийском стиле – он истолковывает его в византийском стиле. Для него быть художником в первую очередь означает обладать способностью к интерпретации. Он открывает вещам доступ к сакральной вселенной и использует для этого соответствующие средства, заимствованные у церемониала и ритуала.
Писать по-византийски означало примерно то же, что говорить на латыни; с музеем у этого искусства была всего одна общая черта: если византийское искусство представляло собой средство доступа в область сакрального, то наше в лице Рафаэля, Рембрандта, Пьеро делла Франчески и Веласкеса стремилось к тому, что сами эти художники назвали бы прикосновением к Богу. Пуссен стилизует своего персонажа, Рембрандт заливает своего светом – и все ради того, чтобы дать им вырваться за пределы человеческого существования; точно так же автор мозаик собора Монреале стилизует своего, чтобы позволить ему ступить в мир сакрального.
Но романское искусство и даже Кватроченто – в отличие от готики начала века – отвечали не на религиозный или сентиментальный, а на художественный призыв. Если романское искусство славило Бога в его созданиях, то возрождалось оно без Бога. Век вынуждал его становиться произведением искусства, как музей принуждал распятие становиться скульптурой. И все большую остроту приобретала конфронтация с романтизмом. Картина считалась прекрасной, если то, что она изображала, выглядело бы прекрасным в реальности; эта теория, объяснявшая Рафаэля и Пуссена, относилась, пусть и не столь явно, и к Рембрандту. Но о чем рассказала бы статуя-колонна, случись ей ожить? И даже романская голова?
Новые скульптуры появлялись в отрыве от любой живописи и музейных статуй. Они наводили на мысль о воображаемой живописи в гораздо большей степени, чем на мысль о ранних фламандцах; живописью, близкой к готической скульптуре, можно было бы назвать «“Пьета” из Вильнёва», выставленную в Лувре только в 1906 году; романская живопись и вовсе оставалась неизвестной. Великая средневековая традиция не так легко расставалась с красочностью XV века, воздействие которой на настоящую живопись ограничивалось сюжетами. Если бы великие художники-романтики, такие как Констебл, Жерико и Делакруа, никогда не видели ни одного кафедрального собора, разве это изменило бы хоть одну линию на их полотнах?
На фоне монолита барельефов Отёна традиционная скульптура начинала казаться одновременно театральной и дырявой. Акцент романского стиля, акценты стилей Древнего Востока зазвучали так грубо потому, что они спорили не со стилем того или иного художника, а со стилем всего музея, в котором смешались все школы: лица реалистичные и идеализированные, Рафаэль, Веласкес и Рембрандт сливались в едином стиле, а новые акценты противопоставляли ему нечто огромное, но пока смутно определимое.
Для обозначения этой области пока не было даже слова. Искусства делились на имитационные и декоративные (сколько стилей считались декоративными, пока не перешли в разряд просто искусства!). Но уже существовали великие образцы изображений человека, не имевшие ничего общего с имитацией; между ними и орнаментом или иероглификой было что-то еще. Глядя на парки лорда Элджина и на все греческие статуи, появление которых разрушало прежний греческий миф, как они сами разрушали свои римские копии, становилось ясно, что Фидий не похож на Канову (в чем сам Канова с горьким изумлением убедился, посетив Британский музей); тогда же впервые заговорили об искусстве доколумбовой эпохи. «Я имею в виду, – пишет Бодлер в 1860 году, – варварство неизбежное, синтезирующее, детское, сквозящее нередко даже в искусстве совершенном (мексиканском, египетском или ниневийском) и проистекающее из потребности видеть вещи масштабно и рассматривать их во всей совокупности». Этот романский стиль, вытягивавший или перекручивавший фигуры ради их торжественного преображения, громко настаивал на том, что система организованных форм, отвергающая имитацию, может сосуществовать наряду с вещами как вариант иного Творения.[9]
Барокко, бесспорно, тоже искажало фигуры, но пламенеющее барокко (за исключением Эль Греко, почитавшегося теми, кто его знал, как представителя поздней готики, а не барокко) принадлежало к миру, служившему чувству, а чувство в глазах художника ни в коей мере не относилось к числу средств, позволяющих избавиться от диктата сентиментальности. Романское искусство чуждо театру: и дорогой сердцу романтика Пьете XV века, и итальянскому барокко. Оно показывает, что изображение персонажа, испытывающего то или иное чувство, не обязательно является самым мощным средством выражения этого чувства, и искусству, отчаявшемуся изобразить плачущего человека, это вообще не нужно: стиль сам по себе – средство выразительности. Понимание его близости к архитектуре – та же суровость и монументальность – сохранялось, но ослабевало по мере того, как благодаря фотографии на отдельный памятник смотрели в отрыве от скульптурной группы, а ни один художник не станет недооценивать богатство формы по причине ее происхождения. С другой стороны, поскольку романский стиль не был психологическим или сентиментальным отражением христианства XIX века, а Христос XII века был далек как от художников, так и от любителей искусства, романский стиль, освободившись от архитектурной основы и отделив себя от Бога, доказал, что произведение искусства может черпать гений не только в гармонии своих частей, но и в связанном со стилем тайном союзе, объединяющем силой письма на одном тимпане и святых, и грешников; что формы служат этому особенному союзу; наконец, что искусство, вместо того чтобы навязывать художнику формы жизни, способно их ему подчинить. Ни одно из искусств, открытых в нашем веке, каким бы дерзким оно ни казалось, не зародило таких сомнений в ценности художественного наследия, как это сделало одновременное вторжение в нашу жизнь романской, месопотамской и египетской скульптуры.
Греческое искусство начиналось с Фидия; музей пребывал в неведении относительно существования Архаической Олимпии или идолов, а самые масштабные произведения Микеланджело считал незавершенными. «Завершенность» была тогда признаком всей традиционной скульптуры, а общей чертой всех робко зарождавшихся искусств – отсутствие (отказ от) завершенности. Отсюда наблюдение Бодлера, сделанное в связи с Коро, о том, что «совершенное произведение не обязательно завершено, а завершенное – не обязательно совершенно». Египетское искусство эпохи Древнего царства, ассирийское и романское искусство отвергали завершенность, как и Коро, но для них, особенно для египетского искусства, отказ от незавершенности не объяснялся ни небрежностью, ни нежеланием окончательно отделывать произведение. В том, что египетская статуя является произведением искусства, сомнений не возникало ни у кого. Следовательно, стиль служил художнику таким же средством выразительности, как его подчинение иллюзии, и в этом союзе «завершенность» выступала не более чем одним из выразительных средств.
Проблемы в скульптуре ненасытность художников спешила объяснить проблемами с рисунком. Поскольку египетское искусство еще дальше отстояло от богов, чем романское, казалось, что сомнению подвергаются только формы. Знакомство с монументальным искусством – не худший путь к открытию Джотто, но упрощенческий диктат новых стилей не имел своего живописного выражения. Тем, что в области живописи производило впечатление схожей с ними и почти тайной мощи, был эскиз.
В принципе эскиз – это «состояние» произведения, предшествующее его завершению, особенно в том, что касается отработки деталей. Но существовала особая разновидность эскизов, в которых художник, не думая о зрителе и создании иллюзии, сводил то, что видел в реальности или в своем воображении, к пятнам, цветовым мазкам, движениям кисти, – всему тому, что делает живопись живописью.
У нас часто путают рабочие эскизы и «грубые наброски», как путают японский эскиз и великое дальневосточное синтетическое искусство сепии, как путают наброски Дега или Лотрека с их спонтанными на вид рисунками для литографий. Набросок – это заметка на память, тогда как некоторые эскизы создавались с вполне определенной целью. Работа над эскизом для некоторых художников (например, Констебла или Коро) означала не окончательную отделку, а своего рода толкование: они добавляли какую-нибудь деталь, подчеркивавшую глубину, или выписывали лошадь так, чтобы она максимально походила на лошадь (Делакруа), а повозка – на повозку (Констебл); иными словами, старались, чтобы картина, превращенная в убедительную фикцию, выиграла в зрелищности. Чтобы благодаря этому «переводу» создалась иллюзия, предназначенная зрителю, хотя в эскизе иллюзии отводилась вспомогательная роль и художник отворачивался от нее, как и авторы вновь открытых скульптур.
Художники это понимали – и понимали все лучше и лучше. Эскизы, которые наиболее великие из них хранили – Рубенс, Веласкес («Сады»), – не производят впечатления незавершенных картин; это вершины художественной выразительности, и превращение в полноценную картину ослабило бы, если не разрушило бы их. Хотя Делакруа утверждал, что эскиз уступает завершенной картине, он не случайно сохранил часть своих эскизов, по изобразительному качеству равноценных лучшим его полотнам. Он помнил наброски Донателло и Микеланджело, помнил «незавершенность» «Дня»… Так же не случайно, что Констебл – первый из современных пейзажистов – некоторые из лучших своих работ писал в «эскизном стиле», чтобы затем на их основе создавать так называемые «законченные» полотна, которые он и выставлял, но чуть ли не тайно хранил эти восхитительные эскизы, про которые говорил, что они и есть настоящие картины. То же самое делал и Домье…
Это не значит, что эскиз по определению лучше законченного произведения. Речь идет об эскизах особой природы, близких к «Поклонению волхвов» Леонардо, о некоторых «незавершенных» работах Рембрандта и почти обо всех работах Домье. У нас нет уверенности, что эскизы к портретам Рафаэля относились к этой категории; эскиз Энгра к картине «Антиох и Стратоника» недотягивает до самой картины, хранящейся в Шантийи; но эти эскизы, представляющие собой состояния картины, ее подготовительные этапы, подчинены ее законам. Эскиз к «Мосту в Нарни» подчиняется законам Коро, а законченная картина – законам критики. Достаточно сравнить две работы, чтобы убедиться, что речь идет в одном случае об интерпретации, а во втором – об отступлении. Коро, как и Констебл, хранил у себя в мастерской, не выставляя, юношеские картины, которые, как станет ясно позже, выражают самый чистый его стиль. Эскизы Рубенса – не просто состояния картины. Искусство входило в конфликт с «завершенностью», как в Византии священное искусство входило в конфликт с иллюзией.
Граница между эскизом и картиной начинала стираться. Во многих шедеврах – у венецианцев, в последних работах Халса, у английских мастеров – попадаются целые куски, выполненные в эскизном стиле. Что такое «Филопемен» – эскиз или картина? А некоторые работы Рембрандта? И из более близких к тому времени художников – первый «Мост в Нарни» и «Мариэтта» Коро? Для Коро, как и для Констебла, Жерико, Делакруа и Домье эскизный стиль был формой свободы – свободы, к которой они стремились со все большим нетерпением, даже мучась порой угрызениями совести.
Но если иллюзия перестала быть эксклюзивным средством выразительности, совсем другое значение приобретала двухмерная живопись. В этот момент происходило – хотя никто о том пока не догадывался – первое прикосновение к мировой живописи. Египет, Месопотамия, Греция, Рим, Мексика, Персия, Индия, Китай, Япония… Всегда и везде, если не считать нескольких веков и Западной Европы, живопись была двухмерной.
Если традиция музея – самая высокая традиция – на протяжении некоторого времени занимала ведущие позиции в искусствоведении, то теперь она хотя бы утратила статус единственной. Изолированная от других территорий, многие из которых оставались неисследованными, она существовала в замкнутом пространстве. Собственно масляная живопись, независимо от теорий и даже мечтаний великих художников, стала критерием отбора картин для музея – не техникой, как думали многие, и не набором изобразительных приемов, а языком, не связанным напрямую с изображением и таким же специфическим, как язык музыки. Разумеется, никто из великих художников музея не мог игнорировать этот язык, зато они сумели подчинить его себе. Понимание живописи как живописи означало желание изменить ее функцию. Именно к этому стремилось искусство, и находки робкого гения Домье и агрессивного гения Мане походили не столько на изменение традиции, чем занимались их предшественники, сколько на разрыв с традицией, что демонстрировали недавно воскрешенные произведения искусства. Это был другой стиль, а не другая школа – ситуация, немыслимая до того, как появилось само понятие другого стиля.
Именно тогда талант художника перестал быть способом выражения фикции.
Талант, а не живопись. Уже в следующем веке официальные салоны заполнятся сюжетными – от великих до бытовых – картинами: живопись по-прежнему будет что-то выдумывать, но с ее авторами перестанут считаться. То же самое великое преображение произойдет с поэзией: с появлением Бодлера она откажется от повествовательности, хотя официальная поэзия еще долгие годы будет пресмыкаться перед драмой и рассказом. Тот факт, что Мане вызвал дружное восхищение и Золя, и Малларме, не так загадочен, как может показаться: натурализм, символизм и современная живопись, питаемые разными, подчас диаметрально противоположными страстями, с равным злорадством наблюдали за агонией широкой области фикции, последним проявлением которой стала романтизация истории.
Но требовать от живописи и поэзии примата специфических выразительных средств означало, что поэзия должна стать еще больше поэзией, а живопись – еще больше живописью, то есть, утверждали некоторые, меньше поэзией. На самом деле от нее требовалась специфическая поэтичность – в отличие от иллюстративности. Отказываясь от последней, живопись одновременно отвергала фикцию, отныне воспринимаемую как карикатура, как и все, что выходило за рамки «услады для глаз» – подобно тому, как в музыке отдельные пассажи Виттории, Баха или Бетховена выходят за рамки услады для уха; живопись перестала ощущать свою связь с тем, что именовалось возвышенным или трансцендентным. Человек мог наслаждаться живописью, но его душа (как казалось) была тут ни при чем. Искусство и красота разошлись, и их разрыв был гораздо глубже, чем при агонии итальянизма.
Но во что превратилась живопись, которая больше ничего не имитировала, ничего не воображала и ничего не преображала? Она превратилась в живопись. В то, чем она стала в музее, когда сам переполненный музей превратился в навязчивую гипотезу. Отныне художники хотели заниматься живописью, не подчиненной предмету, а явно доминирующей над предметом; им казалось, что предчувствие этого доминирования (не сознательное и применимое ко всему произведению в целом, а случайное, часто ограниченное фрагментом, отдельным полотном и особенно эскизом и играющее второстепенную роль) они встречали у некоторых мастеров, которые «рисовали кистью».
Рубенс с жирными ломаными арабесками его эскизов, Халс с его схематичными руками пророка современного искусства, Гойя с его акцентами чистого черного цвета, Делакруа и Домье с их яростными взмахами бича – складывается впечатление, что все они хотели лично показаться на собственных полотнах подобно тому, как раннехристианские художники добавляли свои лица к лицам меценатов. Их неистовая живопись заменяла им подпись. И те, кто подписывал свои работы таким образом, как будто предпочитали саму материю живописи тому, что с ее помощью изображали.
Но и письмо, и материя оставались на службе изображения. В последних полотнах Тициана и у Тинторетто мазок кисти работает на создание драматического лиризма; то же самое мы видим у Рембрандта, хотя и в более сдержанной манере. Делакруа не без внутренних терзаний отдается подсмотренному у Рубенса буйству. Гойя иногда заходит дальше других, но Гойя, если отвлечься от его голосов и теней, заимствованных у музея, – это уже современное искусство.
Еще были Гварди и Маньяско. В лучших работах Маньяско его исступленное письмо, все состоящее из восклицательных знаков, словно следует за световым лучом, едва касающимся предметов и персонажей (Энгр считал этот косой свет несовместимым с достоинством искусства).
Этот свет, даже если он не выписан, служит художнику, кисть которого ему послушна. И каких бы ярких успехов ни добивалась порой итальянская трагикомедия, мы видим ее ограничения, поскольку она сама накладывает ограничения на художника в сценах инквизиции.
Современное искусство из всего этого возьмет себе только независимость художника. Свет будет наименьшей из их забот. (Кстати, мы уверены, что «Олимпия» и «Флейтист» освещены анфас?) То, что на жаргоне мастерских именовалось «мастерством», сменилось «результатом». Про Мане говорили, что он не способен написать ни сантиметра кожи, а «Олимпию» рисовал проволокой; при этом забывали, что его желанием было не писать плоть и не рисовать Олимпию, а писать картину. Розовый пеньюар в «Олимпии», малиновый балкон в «Баре в “Фоли-Бержер”», голубая ткань в «Завтраке на траве» – это, бесспорно, цветовые пятна, и их материя имеет отношение к живописи, но не имеет отношения к изображаемому предмету. Картина, фон которой представлял собой дыру, превращается в поверхность. В самых выразительных эскизах Делакруа еще присутствует драматизация – то, что делает Мане в некоторых своих работах, есть превращение мира в живопись.



