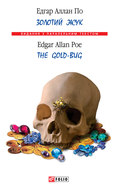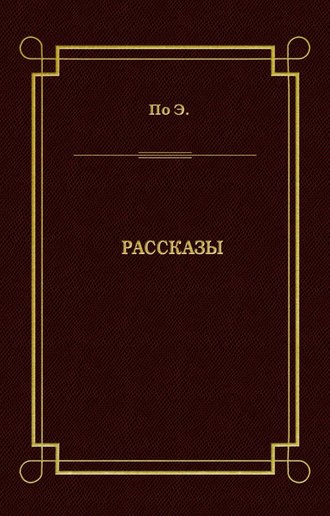
Эдгар Аллан По
Рассказы
Вижу как сейчас эту свадебную комнату со всеми ее мелочами, со всеми украшениями. Куда девался рассудок вельможных родителей жены моей, когда, ослепленные блеском золота, они позволили ей, своей любимой дочери, переступить порог комнаты с таким убранством. Я сказал, что помню до мельчайших подробностей эту комнату, хотя я крайне забывчив на вещи гораздо большей важности, а в этой фантастической обстановке не было никакого порядка, никакой системы, которая могла бы удержаться в памяти. Комната в высокой башне аббатства, выстроенного в виде замка, была пятиугольной формы и обширных размеров. Вся южная сторона пятиугольника занята окном, состоявшим из одного огромного цельного венецианского стекла свинцовой окраски, так что лучи солнца и луны, проникая сквозь него, озаряли комнату зловещим, странным светом. Над верхней частью этого высокого окна вилась старая виноградная лоза, взбиравшаяся по массивным стенам башни. Потолок из темного дуба поднимался высоким сводом и был украшен причудливой резьбой полуготического, полудруидического стиля. В центре этого мрачного свода висела на золотой цепи, с длинными кольцами, кадильница, из того же металла, с мавританским узором и многочисленными отверстиями, расположенными так, что разноцветные огни беспрерывно выскальзывали, как змеи, то из одного, то из другого.
Оттоманки и золотые канделябры в восточном вкусе помещались в разных углах комнаты; здесь же находилось брачное ложе – в индийском стиле, низкое, черного дерева, резной работы, с балдахином, напоминавшим погребальный покров. Но главная фантазия заключалась, увы, в драпировках комнаты. Высокие, гигантские, даже непропорциональные стены были сплошь обиты плотной, тяжелой тканью, падавшей широкими складками. Из той же ткани был ковер, обивка кровати и оттоманок, балдахин и роскошные занавеси, отчасти закрывавшие окно. Ткань, богато затканная золотом, испещрена была арабесками в виде агатово-черных фигур, беспорядочно разбросанных. Но эти фигуры казались арабесками, только когда их рассматривали с известной точки. С помощью приспособления, ныне очень распространенного, которое можно проследить до глубокой древности, они были сделаны так, что постоянно меняли свой вид. Для того, кто входил в комнату, они казались в первую минуту просто уродливым узором, но впечатление это скоро исчезало, и, подвигаясь дальше, посетитель видел вокруг себя бесконечное шествие зловещих образов, подобных тем, которые зарождались в норманнских суевериях или в грешном сне монахов. Это сказочное действие усиливалось током воздуха, постоянно колебавшим завесы и придававшим всему отвратительную, беспокойную живость.
Вот в каком помещении, в каком брачном чертоге проводил я с леди Тремен счастливые первые месяцы нашего брака, проводил без всякой тревоги. Я не мог не заметить, что жена моя опасалась бурных порывов моего нервного характера, избегала меня и не питала ко мне особенно нежной страсти, но это доставляло мне скорее удовольствие, чем огорчение. Я сам ненавидел ее адской, нечеловеческой ненавистью. Мои воспоминания уносились назад (о, с каким глубоким раскаянием), к Лигейе, к ней, возлюбленной, святой, прекрасной, погребенной. Я забывался в воспоминаниях о чистоте ее, мудрости, возвышенности, о небесной природе ее и страстной, боготворящей любви. Теперь мой дух пылал еще сильнейшим пламенем, чем дух Лигейи. В горячке грез, порожденных опиумом (так как я почти постоянно находился под его влиянием), я громко призывал ее в ночной тиши или днем в уединенных долинах, точно дикая страсть, возвышенная сила чувства, пожирающий жар моей тоски по усопшей могли вернуть ее на жизненный путь, покинутый, о, ужели навсегда ею покинутый?
Спустя месяц после нашей свадьбы леди Ровена поражена была внезапной болезнью, от которой оправлялась очень медленно. Лихорадка не давала ей покоя по ночам, и в тревожном полусне своем она говорила о звуках и шорохах в комнате, что я приписывал ее расстроенному воображению или, быть может, влиянию сказочной обстановки. Наконец она стала выздоравливать, и выздоровела. Но скоро новый, еще более сильный приступ болезни заставил ее вернуться на ложе страданий, и после этого нового приступа слабое тело ее уже никогда не могло вполне оправиться.
С течением времени припадки ее и неожиданное возвращение их приняли угрожающий характер, как бы издеваясь над знаниями и опытностью врачей. С усилением этой возвратной болезни, укоренившейся в теле ее так прочно, что человеческое искусство, по-видимому, не могло изгнать ее, нрав ее также заметно изменился: усилились раздражительность и боязливость. Теперь она еще чаще говорила о звуках, слабых звуках и странных движениях среди драпировок комнаты.
Однажды ночью, в конце сентября, настойчивее, чем обыкновенно, старалась она обратить мое внимание на этот докучный предмет. Она только что очнулась от беспокойного сна, и я с чувством тревоги и смутного страха следил за ее исхудалым лицом. Я сидел подле постели на индийской оттоманке. Она приподнялась и говорила шепотом, с выражением глубокого убеждения, о звуках, которые она теперь слышит, а не о движениях, которые она теперь видит, а я не вижу. Ветер шелестел в завесах, и я старался убедить ее (но признаюсь, и сам не вполне верил этому), что эти чуть слышные вздохи и легкие изменения фигур на стенах – естественное следствие движения воздуха. Но смертная бледность, покрывшая лицо ее, доказала бесплодность усилий моих По-видимому, она готова была лишиться чувств, а поблизости не было слуг. Вспомнив, где стоит графин с легким вином, которое ей прописали врачи, я бросился за ним через комнату. Но когда я вступил в полосу света, падавшего от кадильницы, два поразительных обстоятельства привлекли внимание мое. Я почувствовал, что кто-то невидимый, но осязаемый прошел мимо меня, и заметил на освещенном пространстве золототканого ковра тень, легкую, неясную тень ангела, как бы тень тени. Но, находясь под влиянием неумеренной дозы опиума, я не обратил внимания на эти явления и ни слова не сказал о них Ровене. Отыскав вино, я вернулся к постели и, наполнив бокал, поднес его к губам изнемогавшей леди. Впрочем, она уже оправилась и приняла от меня бокал, а я опустился на оттоманку, не спуская глаз с лица ее. В эту минуту услышал я легкие шаги по ковру близ кровати, и мгновение спустя, когда Ровена подносила бокал к губам, я увидел или мне померещилось, что в него упали, точно из невидимого источника в воздухе, три или четыре крупные капли сверкающей рубиново-красной жидкости. Я видел это, Ровена не видела. Она не задумываясь выпила вино, а я не стал говорить ей об этом странном явлении, решив, что оно было простым бредом моего расстроенного воображения, возбужденного ужасом больной, опиумом и поздним часом.
Но я не мог не заметить, что вслед за падением рубиновых капель состояние жены моей стало быстро ухудшаться, так что на третью ночь слуги уже приготовляли к погребению тело ее, а на четвертую я сидел перед окутанным в саван трупом в той же сказочной комнате, которая принимала новобрачную. Дикие, рожденные опиумом видения, подобно теням, реяли в глазах моих. Беспокойным взором смотрел я на саркофаги по углам, на изменчивые фигуры завес, на разноцветные огни кадильницы над головой моей. Потом, вспомнив о странных явлениях той ночи, опустил глаза на освещенное пространство, где заметил легкие очертания тени. Теперь ее не было, и, вздохнув с облегчением, я устремил глаза на бледную окоченелую фигуру, лежавшую на постели. Тут нахлынули на меня воспоминания о Лигейе, и в сердце моем пробудилась с неудержимою силой бурного потока несказанная скорбь, терзавшая меня, когда я увидел ее в саване. Часы летели, а я, с сердцем, полным горьких воспоминаний о бесконечно любимой, я все сидел, не сводя глаз с тела Ровены.
Около полуночи, а может быть, и раньше или позже, потому что я не следил за временем, тихое, слабое, но явственно слышное рыдание пробудило меня от моей задумчивости. Я чувствовал, что оно доносилось с ложа – с ложа смерти. Я прислушался в агонии суеверного ужаса, но звук не повторился. Я напрягал зрение, стараясь уловить хотя бы малейшее движение тела, но оно не шевелилось. А между тем я не мог ошибаться. Я слышал звук, хотя слабый, и душа моя встрепенулась от этого звука. Я решительно и упорно уставился на тело. Прошло несколько минут, но ничего не случилось, что могло бы разъяснить эту загадку. Наконец ясно увидел я, что на щеках трупа и вдоль жилок опущенных век выступила краска, легкая, бледная, чуть зримая. В припадке несказанного ужаса, для которого нет слов в языке человеческом, я почувствовал, что сердце мое перестало биться и члены отнялись.
Но чувство долга вернуло мне самообладание. Я не мог более сомневаться, что мы слишком поторопились: Ровена жива. Необходимо было немедленно принять какие-нибудь меры, но башня находилась в части замка, удаленной от помещения слуг, мне некого было кликнуть, пришлось бы оставить комнату на несколько минут, а на это я не мог решиться. Я попробовал один привести ее в чувство. Вскоре, однако, признаки жизни снова исчезли и румянец на щеках и на веках угас, уступив место мраморной бледности, губы еще более сжались и исказились зловещей гримасой смерти, кожа приобрела отвратительную ледяную скользкость, и снова труп окоченел. Я с ужасом отшатнулся от ложа и вновь предался страстным мечтам о Лигейе.
Прошел час, и опять – Боже великий! возможно ли это? – опять услыхал я слабый звук, исходивший от ложа. Я прислушался, вне себя от ужаса. Звук повторился; то был вздох. Бросившись к телу, я увидел – ясно увидел, – что губы его дрожат. Минуту спустя они разомкнулись, обнажив блестящий ряд жемчужных зубов. Теперь изумление боролось в душе моей с ужасом, который один переполнял ее раньше. Я чувствовал, что в глазах моих темнеет, рассудок мешается, и только страшным усилием воли я принудил себя взяться за дело, к которому призывал меня долг. Румянец появился на щеках, на лбу, на шее Ровены; теплота разлилась по всему телу; я чувствовал даже слабое биение сердца. Леди была жива, и я с удвоенной решимостью принялся приводить ее в чувство. Я тер и смачивал виски и руки ее, применял все меры, какие мог подсказать мне опыт и основательное знакомство с врачебной наукой. Все было тщетно. Внезапно румянец исчез, сердце перестало биться, губы приняли выражение, свойственное мертвому, и спустя мгновение труп оледенел, посинел и скорчился. Я снова предался мечтам о Лигейе и снова – мудрено ли, что я дрожу, вспоминая об этом, – снова легкое рыдание донеслось до слуха моего. Но зачем подробно описывать ужасы этой ночи? Зачем рассказывать, как снова и снова, до самого рассвета, повторялась эта чудовищная игра оживления; как всякий возврат к жизни кончался возвратом к еще более жестокой и неодолимой смерти; как всякий раз агония имела вид борьбы с каким-то невидимым врагом и как после каждой борьбы вид трупа странно изменялся. Тороплюсь кончить.
Ночь уже почти прошла, и мертвая снова зашевелилась – и сильнее, чем прежде, хотя перед этим состояние трупа казалось еще более безнадежным, чем раньше. Я давно уже перестал бороться и двигаться и сидел, прикованный к оттоманке, беспомощная жертва вихря бешеных чувств, среди которых чувство невыразимого страха было, пожалуй, наименее ужасным, наименее потрясающим. Повторяю, тело зашевелилось, и сильнее, чем прежде. Румянец жизни вспыхнул еще ярче на лице, члены ожили, и, если бы не опущенные веки, не саван, придававший телу мертвенный вид, я мог бы подумать, что Ровена стряхнула наконец узы смерти. Но если я все еще сомневался, то всякое сомнение исчезло, когда, поднявшись с ложа, шатаясь, шагами нетвердыми, с закрытыми глазами и видом лунатика существо, закутанное в саван, вышло на середину комнаты.
Я не вздрогнул, не пошевелился, потому что рой неизъяснимых впечатлений, связанных с наружностью, ростом, осанкой этого видения, сразил меня, превратил в камень. Я не шевелился, я смотрел не спуская глаз на видение. Бессвязные, безумные мысли роились в уме моем. Неужели это живая Ровена была предо мною? Неужели это Ровена? Златокудрая, голубоокая леди Ровена Тревенион Тремен? Почему же, почему я сомневался в этом? Тяжелая повязка давила губы ее – разве это не губы леди Тремен? А щеки – на них цвели розы, как в полдень жизни ее – да, без сомнения, эти щеки могли быть щеками леди Тремен. А подбородок с ямочками, как во дни ее здоровья, – отчего бы ему не быть ее подбородком? – да, но, значит, она выросла со времени своей болезни? Какое несказанное безумие овладело мной при этой мысли! Одним прыжком я очутился у ног ее! Она отшатнулась, освободила голову от страшного савана, который окутывал ее, и в веющем воздухе комнаты разметались густыми прядями длинные-длинные волосы; они были чернее вороновых крыльев полночи! И медленно-медленно открылись глаза ее.
– Так вот они, наконец! – воскликнул я громким голосом. – Теперь я уже не могу ошибиться: вот они, огромные, черные, дикие глаза моей погибшей любви – леди, леди Лигейи!
Падение дома Эшеров
Son coeur est un luth syspendu,
Sitot qu'on le touche il resonne.
De Beranger[18]
Весь этот день – тусклый, темный, беззвучный осенний день – я ехал верхом по необычайно пустынной местности, над которой низко нависли свинцовые тучи, и наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера. Не знаю почему, но при первом взгляде на нее невыносимая тоска проникла мне в душу. Я говорю невыносимая, потому что она не смягчалась тем грустным, но сладостным поэтическим чувством, которое вызывают в человеке даже самые ужасные и мрачные картины природы. Я смотрел на запустелую усадьбу – на одинокий дом и угрюмые стеньг, на зияющие глазницы выбитых окон, чахлую осоку, седые стволы дряхлых деревьев – с чувством гнетущим, которое могу сравнить только с пробуждением курильщика опиума, горьким возвращением к обыденной жизни, когда завеса спадает с глаз и презренная действительность обнажается во всем своем безобразии.
То была леденящая, ноющая, сосущая боль сердца, безотрадная пустота в мыслях; и воображение тщетно силилось настроить душу на более возвышенный лад. «Что же именно, – подумал я, – что именно так удручает меня, когда я смотрю на дом Эшера?» Я не мог разрешить этой тайны; не мог разобраться в тумане нахлынувших на меня смутных впечатлений. Пришлось удовольствоваться ничего не объясняющим выводом, что известные сочетания весьма естественных предметов могут влиять на нас особым образом, но исследовать это влияние – задача непосильная для нашего ума. «Возможно, – думал я, – что простая перестановка, иное расположение мелочей, подробностей картины изменит или уничтожит столь гнетущее впечатление». Под влиянием этой мысли я подъехал к самому краю обрыва над черным, мрачным прудом, неподвижная гладь которого раскинулась перед самой усадьбой, и содрогнулся еще сильнее, увидев чахлую осоку, седые стволы деревьев, пустые глазницы окон, отраженные в воде.
Тем не менее я предполагал провести несколько недель в этом угрюмом жилище. Владелец его, Родерик Эшер, был моим другом детства; но много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз. И вот недавно я получил от него письмо – очень странное, настойчивое, требовавшее личного свидания. Письмо свидетельствовало о сильном нервном возбуждении. Эшер описывал свои жестокие физические страдания, свое душевное расстройство, он хотел непременно повидать меня, своего лучшего, даже единственного, друга, общество которого облегчит его мучения. Тон письма, его очевидная сердечность заставили меня принять приглашение без всяких колебаний; но, хотя я и последовал ему, оно все же казалось мне странным.
Несмотря на нашу тесную дружбу в детские годы, я знал своего друга очень мало. Крайняя замкнутость вошла у него в привычку. Мне было известно, однако, что он принадлежит к очень древнему роду, представители которого с незапамятных времен отличались особенно тонкой восприимчивостью, – она сказывалась и в различных произведениях искусства, создававшихся Эшерами в течение многих веков и всегда носивших отпечаток восторженности, а позднее – в щедрой, но отнюдь не навязчивой благотворительности и в страстной любви к музыке – скорее к ее трудностям, чем к признанным и легкодоступным красотам. Мне известен также примечательный факт, что этот род при всей своей древности не породил ни одной сколько-нибудь живучей боковой ветви; иными словами, что все его члены, за весьма немногими и случайными отклонениями, были связаны родством по прямой линии. Когда я размышлял об удивительном соответствии между характером поместья и характером его владельцев и о возможном влиянии первого на второй в течение многих столетий, мне часто приходило в голову: не это ли отсутствие боковой линии и неизменная передача от отца к сыну имени и поместья так соединила эти последние, что первоначальное название усадьбы местные крестьяне заменили странным и двусмысленным прозвищем: Дом Эшеров, под которым они разумели как самих владельцев, так и их родовое поместье.
Я сказал, что моя довольно ребяческая попытка приободриться, – заглянув в пруд, – только углубила первые впечатления. Не сомневаюсь, что мысль о каком-то суеверном страхе людей перед этим домом – почему не употребить мне слово «суеверный»? – усилила его воздействие. Таков – я давно убедился в этом – парадоксальный закон всех душевных движений, в основе которых лежит чувство ужаса. Быть может, только этим и объясняется странная фантазия, появившаяся у меня, когда я перевел взгляд с отражения на усадьбу, – фантазия просто смешная, так что и упоминать бы о ней не стоило, если бы она не свидетельствовала об осаждавших меня ощущениях. Мне почудилось, будто и дом, и вся усадьба окружены совершенно особенной, только им присущей, тяжелой атмосферой, нисколько не похожей на окружающий вольный воздух, словно над гниющими деревьями, ветхой стеной, молчаливым прудом стояли какие-то загадочные испарения – смутные, едва уловимые, но удушливые.
Стряхнув с души все эти образы, которые, конечно, были бредом, я стал внимательно рассматривать сам дом. Прежде всего бросалась в глаза его глубокая древность. Века обесцветили его, наложив свою неизгладимую печать. Мох и плесень почти сплошь покрывали дом, свешиваясь косматыми прядями по краям крыши. Но больше всего бросались в глаза признаки тления Ни одна часть дома не обвалилась – тем более поражало несоответствие общей, уцелевшей во всех своих частях постройки с обветшалостью раскрошившихся кирпичей. Такой вид имеет иногда изъеденная годами старинная деревянная резьба в каком-нибудь заброшенном помещении, куда не проникает свежий воздух. Впрочем, кроме этих признаков ветхости, ничто не говорило о грозящем разрушении. И только очень внимательный наблюдатель заметил бы легкую, чуть видную трещину, которая, начинаясь под крышей на фасаде здания, шла по стене зигзагами, исчезая потом в мутных водах пруда.
Рассмотрев все это, я подъехал к дому. Слуга принял мою лошадь, и я вошел через готический подъезд в вестибюль. Отсюда лакей, неслышно ступая, провел меня по темным извилистым коридорам в кабинет своего господина. Многое из того, что встречалось мне по пути, усиливало смутное впечатление, о котором я уже говорил. Все это – резные потолки, темные обои, полы, окрашенные в черную краску, фантастические воинские доспехи, звеневшие, когда я проходил мимо, – было мне знакомо с детства; но, хотя я сразу узнал эти комнаты, столь знакомые предметы возбуждали во мне совершенно незнакомые ощущения. На одной из лестниц я встретил домашнего врача Эшеров. Лицо его, как мне показалось, выражало смесь смущения и низкой хитрости. Он, видимо, спешил и только кивнул мне мимоходом. Наконец лакей распахнул дверь и доложил о моем приезде.
Я очутился в высокой и просторной комнате. Длинные, узкие стрельчатые окна находились так высоко от черного дубового пола, что были совершенно недоступны. Тусклый красноватый свет проникал сквозь решетки, так что наиболее крупные предметы обрисовывались довольно ясно; но глаз тщетно старался проникнуть в отдаленные углы комнаты и выемки сводчатого расписного потолка. Стены были задрапированы темными тканями. Роскошная старинная мебель была неудобной и ветхой. Разбросанные всюду книги и музыкальные инструменты не оживляли комнату. Самый воздух, казалось, был напоен тоской. Угрюмая, бесконечная, безнадежная – висела она надо всем, пронизывала все.
Когда я вошел, Эшер встал с дивана, на котором лежал вытянувшись, и приветствовал меня с радостью, которая показалась мне несколько преувеличенной и искусственной, как у светских людей, которым наскучило все на свете. Но, взглянув на него, я убедился в его полной искренности. Мы сели; с минуту я глядел на него со смешанным чувством тревоги и жалости. Без сомнения, никогда еще человек не изменялся так страшно в такой короткий срок, как Родерик Эшер! Я едва мог признать в этом изможденном создании друга моих детских игр. А между тем наружность его была примечательна. Мертвенно-бледная кожа; огромные, светлые, с невыразимым влажным блеском глаза; губы тонкие, бледные, но необычного рисунка; изящный еврейский нос с чересчур широкими ноздрями; маленький изящный подбородок, однако лишенный энергических очертаний (признак душевной слабости); мягкие волосы, тонкие-тонкие, как паутинки; лоб, расширяющийся над висками и необычайно высокий – такую наружность трудно забыть. Своеобразие этого лица и присущее ему выражение теперь обозначились еще отчетливее, – но именно это обстоятельство изменяло его до неузнаваемости, так что я даже усомнился, точно ли это мой старый друг. Больше всего поразили, даже испугали меня призрачная бледность его лица и влажный блеск глаз. Шелковистая паутина волос, очевидно, давно уже не знавших ножниц, обрамляла лицо легкими, словно парящими прядями и тоже придавала ему какой-то нездешний вид.
В движениях моего друга мне прежде всего бросилась в глаза какая-то судорожность, порывистость – следствие, как я вскоре убедился, постоянной, но беспомощной и тщетной борьбы с крайним нервным возбуждением. Я ожидал чего-нибудь в этом роде не только по письму, но и по воспоминаниям о некоторых чертах его характера, проявлявшихся в детстве, да и по всему, что я знал о его физическом состоянии и темпераменте. Он то и дело переходил от оживления к унынию. Голос его также мгновенно изменялся: дрожь нерешительности (когда жизненные силы, по-видимому, совершенно иссякали) сменялась стремительной уверенностью тона – отрывистого, резкого, не терпевшего возражений, и той грубоватой, веской и размеренной манерой говорить, с точными певучими модуляциями, какая бывает у горького пьяницы или записного курильщика опиума в минуты сильнейшего возбуждения.
Так говорил он о цели моего посещения, о своем горячем желании видеть меня, об утешении, которое доставил ему мой приезд. Затем, как будто не совсем охотно, перешел к своей болезни. Это был, по его словам, наследственный недуг, против которого, кажется, нет лекарства… «Нервное расстройство, – прибавил он поспешно, – которое, без сомнения, очень скоро пройдет само собою». Оно выражалось в различных болезненных ощущениях. Некоторые из них заинтересовали и поразили меня, хотя, быть может, действовали и его манера рассказывать, и выразительность его слов. Он жестоко страдал от чрезмерной остроты чувств, мог принимать только самую безвкусную пищу, носить только определенные ткани, не терпел запаха цветов; самый слабый свет раздражал его глаза, и лишь немногие звуки – только струнных инструментов – не внушали ему ужаса.
Оказалось также, что на него находят приступы беспричинного неестественного страха.
– Я погибну, – говорил он, – я должен погибнуть от этого жалкого безумия. Так, именно так, а не иначе, суждено мне умереть. Я страшусь будущих событий; и не их самих, а их последствий. Дрожу при мысли о самых обыденных происшествиях, оттого что они могут повлиять на это невыносимое возбуждение. Боюсь не самой опасности, а ее неизбежного следствия – ужаса. Чувствую, что это развинченное, это жалкое состояние рано или поздно кончится потерей рассудка и жизни в борьбе со зловещим призраком – страхом!
Я подметил также в его неясных и двусмысленных намеках другую любопытную болезненную черту: его преследовали суеверные представления, связанные с жилищем, в котором он провел безвыездно столько лет; мысль о каком-то влиянии, сущность которого он излагал так неясно, что смысл его слов было бы трудно передать. Судя по ним, некоторые особенности его родовой усадьбы в течение многих лет мало-помалу приобрели странную власть над его душой: предметы чисто физического порядка – серые стены и башенки, темный пруд, в котором они отражались, – влияли на духовную сторону его существования.
Впрочем, он допускал, хоть и не без колебаний, что та особенная тоска, о которой он говорил, возможно, является следствием гораздо более естественной и осязаемой причины: тяжелой и долгой болезни и, несомненно, близкой кончины нежно любимой сестры, бывшей в течение многих лет его другом и товарищем, – единственного родного существа, которое у него оставалось в этом мире.
– После ее смерти, – продолжал он с горечью, которая произвела на меня неизгладимое впечатление, – я, хилый и больной, без надежды на потомство, останусь последним в древнем роде Эшеров.
Когда он говорил это, леди Магдалина (так звали его сестру) медленно прошла в глубине комнаты и скрылась, не заметив моего присутствия. Я взглянул на нее с удивлением, к которому примешивался какой-то страх. Почему? Я не могу этого объяснить. Пока я следил за ней глазами, меня охватило странное оцепенение. Наконец она исчезла за дверью. Я невольно украдкой взглянул на моего друга, но он закрыл лицо руками, и я заметил только ужасающую худобу его пальцев, сквозь которые потекли горячие слезы.
Болезнь леди Магдалины давно уже приводила в недоумение врачей. Постоянная апатия, истощение, частые, хоть и кратковременные, явления каталептического характера – таковы были главные признаки этого странного недуга. Впрочем, леди Магдалина упорно боролась с ним и ни за что не хотела лечь в постель; но вечером, после моего приезда, все же слегла (брат с невыразимым волнением сообщил мне об этом ночью) – так что я, по всей вероятности, видел ее живой в последний раз.
В течение нескольких дней ни Эшер, ни я не упоминали ее имени. Я всеми силами старался рассеять тоску моего друга. Мы вместе рисовали, читали, или я слушал, как во сне, его бурные импровизации на гитаре. Но чем теснее и ближе мы сходились, чем глубже я проникал в душу его, тем очевиднее становилась мне безнадежность всяких попыток развеселить этот скорбный дух, который словно отбрасывал мрачную тень на все явления духовного и вещественного мира.
Я вечно буду хранить в своей памяти многие торжественные часы, проведенные наедине с хозяином Дома Эшеров. Но вряд ли мне удастся дать точное представление о тех занятиях, участником которых он делал меня. Беспредельная отвлеченность фантазии Эшера озаряла все каким-то фосфорическим светом. Его мрачные музыкальные импровизации навсегда врезались мне в душу. Между прочим, мне мучительно запомнилась странная осложненная вариация на бурный мотив последнего вальса Вебера. Произведения живописи, создаваемые его изысканным воображением и с каждым мазком переходившие во что-то все более смутное, заставляли меня трепетать тем сильнее, что я не понимал причин подобного впечатления, – эти картины (хоть я как будто вижу их перед собой) решительно не поддаются описанию. Они поражали и приковывали внимание своей совершенной простотой, обнаженностью рисунка. Если смертный когда-либо живописал мысль, то этим смертным был Родерик Эшер. На меня – по крайней мере, при обстоятельствах, в которых я находился, – чисто абстрактные концепции, которые этот ипохондрик набрасывал на полотно, производили впечатление невыносимо зловещее, какого я никогда не испытывал, рассматривая яркие, но слишком определенные фантазии Фюзели.
Одно из фантасмагорических созданий моего друга, не столь отвлеченное, как остальные, я попытаюсь описать, хотя слова дадут о нем лишь слабое представление. Небольшая картина изображала внутренность бесконечно длинного сводчатого коридора или туннеля, с низкими стенами, гладкими и белыми, без всяких впадин и выступов. Некоторые детали рисунка ясно показывали, что туннель лежал на огромной глубине под землею. Он не сообщался с поверхностью посредством какого-либо выхода, и не было заметно ни факела, ни другого источника искусственного света, – а между тем поток ярких лучей струился в него, все затопляя зловещим и неестественно ярким светом.
Я уже упоминал о болезненном состоянии слуховых нервов моего друга, вследствие чего он не выносил никакой музыки, кроме звучаний некоторых струнных инструментов. Быть может, эта необходимость ограничивать себя малым диапазоном гитары в значительной мере и обусловливала фантастический характер его импровизаций. Но легкость, с какой он сочинял свои impromptus[19], не объясняется только этим обстоятельством. Музыка и слова его диких фантазий (он нередко сопровождал свою игру рифмованными импровизациями) были, по всей вероятности, результатом самоуглубления и сосредоточения, которые, как я уже говорил, наблюдаются у людей в минуты чрезвычайного искусственного возбуждения. Мне легко запомнились слова одной из его песен. Быть может, она поразила меня сильнее, чем другие, вследствие истолкования, которое я дал ее таинственному смыслу: мне казалось, будто Эшер вполне ясно сознает – и притом впервые, – что его возвышенный ум колеблется на своем престоле. Вот слова этой песни – она звучала примерно так
В самой зеленой из наших долин,
Где обиталище духов добра,
Некогда замок стоял властелин,
Кажется, высился только вчера.
Там он вздымался, где Ум молодой
Был самодержцем своим.
Нет, никогда над такой красотой
Не раскрывал своих крыл Серафим!
Бились знамена, горя, как огни,
Как золотое сверкая руно.
(Все это было – в минувшие дни,
Все это было давно.)
Полный воздушных своих перемен,
В нежном сиянии дня,
Ветер душистый вдоль призрачных стен
Вился, крылатый, чуть слышно звеня.
Путники, странствуя в области той,
Видели в два огневые окна
Духов, идущих певучей четой,
Духов, которым звучала струна,
Вкруг того трона, где высился он,
Багрянородный герой,
Славой, достойной его, окружен,
Царь над волшебною этой страной.
Вся в жемчугах и рубинах была
Пышная дверь золотого дворца,
В дверь все плыла, и плыла, и плыла,
Искрясь, горя без конца,
Армия Откликов, долг чей святой
Был только – славить его,
Петь, с поражающей слух красотой,
Мудрость и силу царя своего.
Но злые созданья, в одеждах печали,
Напали на дивную область царя.
(О, плачьте, о, плачьте! Над тем, кто в опале,
Ни завтра, ни после не вспыхнет заря!)
И вкруг его дома та слава, что прежде
Жила и цвела в обаянье лучей,
Живет лишь как стон панихиды надежде,
Как память едва вспоминаемых дней.
И путники видят, в том крае туманном,
Сквозь окна, залитые красною мглой,
Огромные формы, в движении странном,
Диктуемом дико звучащей струной.
Меж тем как, противные, быстрой рекою,
Сквозь бледную дверь, за которой Беда,
Выносятся тени и шумной толпою,
Забывши улыбку, хохочут всегда[20].
Я помню, что в разговоре по поводу этой баллады Эшер высказал мысль, которую я отмечаю не вследствие ее новизны (многие высказывали то же самое[21]), а потому, что он защищал ее с необычайным упорством. Сущность этой мысли сводится к тому, что растительные организмы также обладают чувствительностью. Но его расстроенное воображение придало этой идее еще более смелый характер, перенеся ее до некоторой степени в неорганический мир. Не знаю, в каких словах выразить глубину и силу его утверждений. Все было связано (как я уже намекал) с серыми камнями обиталища его предков. Причины своей чувствительности он усматривал в самом размещении камней – в порядке их сочетания, в изобилии мхов, разросшихся на их поверхности, в старых деревьях, стоявших вокруг пруда, а главное – в неподвижности и неизменности их сочетаний и также в том, что они повторялись в спокойных водах пруда. «Доказательством этой чувствительности, – прибавил он, – может служить особая атмосфера (я невольно вздрогнул при этих словах), постепенно сгустившаяся вокруг стен и над прудом». О том же свидетельствует безмолвное, но неотразимое и страшное влияние, которое в течение столетий оказывала усадьба на характер его предков и на него самого, – ибо именно это влияние сделало его таким, каков он есть. Подобные мнения не нуждаются в истолкованиях, и потому я воздержусь от них.