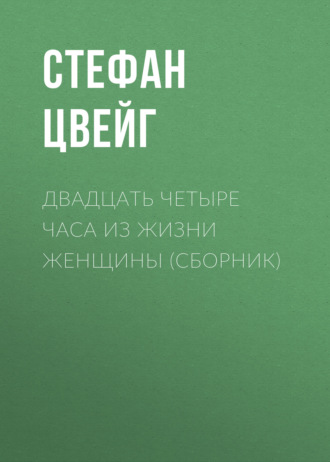
Стефан Цвейг
Двадцать четыре часа из жизни женщины (сборник)
Холодную насмешливость моих недавних противников особенно оттеняла для меня совершенно исключительная любезность, с которою, после этого спора, стала ко мне относиться миссис К. Всегда чрезвычайно сдержанная, едва удостаивавшая разговором во внеобеденное время своих соседей по столу, она теперь не раз находила случай заговаривать со мной в саду, и я бы даже сказал – оказывать мне особое внимание, разрешая мне сопровождать ее, потому что, при ее чопорной сдержанности, уже и беседа с ней казалась как бы милостью. Говоря откровенно, она прямо-таки искала встречи со мной и пользовалась любым поводом, чтобы начать со мной разговор; это было так ясно, что я пришел бы к смелым и странным догадкам, если бы она не была старой, седой дамой. О чем бы мы ни говорили, наша беседа неизбежно возвращалась к ее исходному пункту – мадам Анриет. Ей доставляло какое-то непонятное удовольствие обвинять нарушительницу долга в душевной нестойкости и нравственной ненадежности. Но в то же время она, казалось, радовалась тому, что мои симпатии непоколебимо остаются на стороне этой красивой, изящной женщины и что меня никак нельзя убедить, хотя бы на мгновение, отказаться от этого сочувствия. Она постоянно направляла в эту сторону наш разговор, и я уже не знал, что мне и думать об этом поразительном, почти навязчивом упорстве. Но вместе с настойчивостью у этой старой представительной дамы было такое благородство речи, такая образцовая сдержанность в чувствах, что каждый раз она снова очаровывала меня, и я получал от бесед с нею редкое удовольствие.
Так прошло пять-шесть дней, причем она ни словом не обмолвилась, почему эта тема наших бесед имеет для нее значение. В том же, что это так, я убедился, сообщив ей как-то во время прогулки, что мое пребывание здесь подходит к концу и что через день я думаю уехать. Ее всегда спокойное лицо стало вдруг каким-то странно напряженным, и словно тень тучи пробежала по ее серым ясным глазам.
– Как жаль! Мне бы хотелось еще о многом поговорить с вами.
Она впала в какую-то беспокойную рассеянность, и я чувствовал, что, говоря со мной, она думает о чем-то другом, поглощающем ее мысли. В конце концов она сама это заметила, потому что, когда наш разговор, по ее вине, оборвался, она неожиданно протянула мне руку и порывисто сказала:
– Я вижу, что сейчас не могу ясно выразить вам то, что хотела. Я лучше напишу вам. – И, торопливее, чем обычно, она направилась к дому.
Действительно, вечером, перед самым обедом, я нашел у себя в комнате письмо, написанное ее энергичным, четким почерком. К сожалению, я довольно легкомысленно обошелся с бумагами моей юности и давно уже где-то затерял это письмо, так что теперь не в состоянии привести его дословно и могу лишь приблизительно передать его смысл и содержание. Она писала, что вполне сознает необычность своего поступка, но ей хотелось бы знать, может ли она рассказать мне кое-что из своей жизни. Это такой давний эпизод, что, собственно, он едва ли имеет отношение к ее теперешней жизни, а так как я послезавтра уезжаю, то ей будет легче говорить о том, что вот уже двадцать с лишним лет ее мучает и волнует. И так как в другом случае, где проступок был гораздо более очевидным, я выказал удивительную, на ее взгляд, свободу и снисходительность, ей бы хотелось в беседе со мной разрешить свое собственное сомнение. Если я не считаю такой разговор навязчивым, она просила бы меня уделить ей час времени.
Письмо, из которого я привожу здесь по памяти лишь самое существенное, несказанно поразило меня: английский язык сам по себе уже придавал ему чрезвычайную ясность и решительность, но в самом слоге была такая уверенность и душевная сила, что я счел это неожиданное предложение поистине за особую честь. Ответ все же дался мне не так легко, и я разорвал три черновика, прежде чем написал:
«Для меня большая честь в том, что Вы дарите меня таким доверием, и я обещаю Вам быть честным в своем суждении, если Вы его от меня требуете. Только я просил бы Вас говорить со мной вполне открыто; все недосказанное создает неясность, сбивает. Конечно, я не смею просить Вас говорить мне больше того, что Вы сами внутренне желаете. Но то, что Вы расскажете, расскажите совершенно правдиво и себе, и мне. Я могу чувствовать ясно только там, где нет недоверия. Прошу Вас, поймите, что Ваше доверие я принимаю как особую честь».
Вечером записка была в ее комнате, а на следующее утро я нашел у себя ответ:
«Вы совершенно правы: полуправда ничего не стоит, ценна лишь вся правда. Я соберу все силы, чтобы ни о чем не умолчать, ни перед собой, ни перед Вами. Итак, приходите после обеда в мою комнату – в мои шестьдесят семь лет я не боюсь, что это ложно истолкуют. Я не могу говорить об этом в саду или вблизи людей. Вы должны мне поверить, что мне совсем не легко вообще на это решиться».
В обед мы снова увиделись за столом и чинно беседовали о безразличных вещах. Но когда я случайно встретился с ней в саду, она в легком замешательстве посторонилась меня, и было трогательно видеть, как румянец залил щеки этой старой, седой дамы и она робко и смущенно свернула в аллею пиний.
Вечером, в назначенный час, я постучался. Мне тотчас же открыли. В комнате был мягкий полусвет. На столе горела маленькая лампа для чтения, бросая в сумеречное пространство желтый конус света. Миссис К. непринужденно встала мне навстречу, указала мне на кресло и сама села напротив. Я чувствовал бессознательно, что каждое из этих движений приготовлено заранее и что она сейчас начнет рассказывать. Однако последовала пауза (явно против ее желания), пауза тяжкого колебания, которая длилась и длилась, но я не осмеливался нарушить ее хотя бы единым словом, чувствуя, что в эту минуту сильная воля отчаянно борется с таким же сильным сопротивлением. Снизу, из салона, доносились урывками мягкие звуки вальса, и я прислушивался к ним, чтобы хоть немного облегчить тягостный гнет молчания. Для нее, видимо, также было мучительным это неестественное напряженное молчание, потому что вдруг она как-то сжалась, словно готовясь прыгнуть с высоты, внимательно посмотрела на меня и начала:
– Трудно произнести только первое слово. Вот уже два дня как я приготовилась быть искренней и правдивой. Вероятно, это мне удастся. Может быть, вы этого еще не понимаете и считаете навязчивостью, причудой то, что я вам все это рассказываю, но не проходит дня и даже часа, чтобы я не думала об этом случае, и вы можете поверить мне, как старой женщине, что невыносимо всю жизнь оставаться у одной точки, у одного дня своей жизни. Ибо все, о чем я вам хочу рассказать, замыкается в пределах одних только суток на протяжении шестидесятисемилетней жизни, и я тысячу раз говорила себе, что это ничто на протяжении стольких тысяч дней, даже если один миг человек поступил безрассудно и безумно. Но нет возможности отделаться от того, что так неопределенно называется совестью, и, когда я услышала, как вы спокойно и свободно говорите о случае с Анриет, я подумала, что, быть может, настанет конец этим безумным думам о прошлом, этим нескончаемым самообвинениям, если я решусь поведать кому-нибудь об этом дне моей жизни.
Я знаю, что все это очень странно, но вы, не колеблясь, приняли мое предложение, и за это я заранее благодарю вас.
Я уже вам сказала, что хочу рассказать лишь об одном-единственном дне моей жизни. Все остальное кажется теперь мне самой совсем малозначительным, а всякому другому показалось бы просто скучным. Все, что случилось со мной до моих сорока двух лет, можно рассказать в двух словах. Мои родители были богатые помещики, у нас были фабрики и имения в Шотландии, и мы жили, как живут старые дворянские фамилии, большую часть года в наших имениях, а зимний сезон в Лондоне. В восемнадцать лет я познакомилась в одном обществе с моим мужем, который был вторым сыном в известной семье Р. и десять лет прослужил в индийской армии. Скоро мы женились и повели беззаботную жизнь – три месяца в Лондоне, три месяца в имениях, остальное время в путешествиях по Италии, Испании и Франции. Ничто не омрачало нашей семейной жизни. Два наших сына теперь уже давно выросли и женились, один – морской офицер, другой – дипломат, и я провожу лето попеременно то у одного, то у другого. Когда мне было сорок лет, внезапно умер мой муж. Жизнь в тропиках наделила его болезнью печени, которая мало-помалу приняла тяжелые формы, и я потеряла его после двух ужасных недель. Мой старший сын был тогда уже во флоте, младший в колледже, и вот в одну ночь я стала совсем одинокой на свете. Это одиночество для меня, привыкшей к сердечному общению, было невыносимой мукой. Мне казалось невозможным оставаться хотя бы еще день в опустевшем доме, где каждая вещь напоминала мне о смерти любимого мужа, и поэтому я решила ближайшие годы, пока не вырастут и не женятся мои сыновья, провести в путешествиях.
В сущности, с этого мгновения я считала свою жизнь совершенно бессмысленной и ненужной. Мой муж, с которым я двадцать два года делила все чувства и помыслы, умер, детям я была не нужна и, вероятно, даже мешала их юности моей печалью, моей тоской; для себя самой я уже ничего не требовала, ничего не хотела. Я переселилась в Париж, ходила там от скуки по магазинам и музеям, но ни город, ни его достопримечательности ничего мне не говорили, людей я избегала, потому что не могла видеть, как они с учтивым соболезнованием смотрят на мое траурное платье. О том, как прошли эти месяцы тоски после смерти мужа, я ничего больше не могла бы рассказать. Я знаю только, что мне постоянно хотелось умереть и что у меня не было сил сделать это самой. В моей памяти от того времени осталось только одно это ощущение – все остальное ускользает и кажется мрачным, мучительным и бессмысленно проведенным временем.
На второй год траура, то есть когда мне пошел сорок второй год, я, убегая от этого ставшего слишком тягостным времени, очутилась в конце марта в Монте-Карло. Я не стыжусь сказать, что это случилось от скуки, от мучительного, давящего, как позыв к тошноте, чувства внутренней пустоты, которую можно утолить внешними, раздражающими средствами. Чем меньше чувствовала я себя удовлетворенной, тем сильнее меня тянуло туда, где жизнь бьет ключом, где колесо жизни вертится с головокружительной быстротой, где можно не так остро ощущать холод и смертельную неподвижность. Для тех, у кого нет своих переживаний, мучительные волнения других представляют последнюю возможность новых переживаний, как театр и музыка.
Поэтому я часто бывала в казино. Мне нравилось смотреть, как по лицам других людей взволнованно скользит счастье и отчаяние, меж тем как во мне был все тот же ужасный покой. К тому же мой муж, хоть и не был легкомысленным человеком, не прочь был иногда зайти в игорный зал, а я с какой-то невольной регулярностью жила теперь его привычками. И вот здесь-то и начались эти сутки, волнующие сильнее, чем всякая игра, и на годы исковеркавшие и изменившие мою судьбу.
Днем я обедала с герцогиней фон М., которая была в родстве с моей семьей, а после ужина я почувствовала, что еще не настолько устала, чтобы идти спать. Поэтому я отправилась в игорный зал, бродила, сама не играя, между столами и рассматривала публику по-своему. Я говорю «по-своему», а именно так, как научил меня мой покойный муж, когда, устав смотреть, я как-то пожаловалась, что мне скучно глядеть все на те же лица, на старых, сморщенных женщин, которые часами сидят в своих креслах, прежде чем осмелятся поставить фишку, на всю эту сомнительную, пеструю толпу, которая здесь кажется куда менее живописной и романтической, чем в скверных романах, где ее описывают как «цвет элегантного общества» и аристократию Европы. Вот тогда-то мой муж, увлекавшийся хиромантией, показал мне совсем особую манеру разглядывания, которая была гораздо интереснее и острее, чем скучное стояние, и заключалась в том, чтобы глядеть только на квадрат стола и на руки людей, но не на самих игроков. Я не знаю, глядели ли вы когда-нибудь на один из этих зеленых столов, где посередине, как пьяный, шатается шарик от одной цифры к другой, и на расчерченные поля, куда, словно семена, кружась, падают ассигнации, серебряные и золотые монеты, пока лопаточка крупье, словно коса, единым махом не скосит их, не сгребет их, как сноп, в одно маленькое местечко. Для нас, выросших в деревне, эта зеленая поверхность с расчерченными полями напоминала природу, и в этом душном от испарений и пота зале эти зеленые квадраты не раз казались мне отъезжим полем, полным препятствий и опасности. Но самое замечательное в этом зрелище – это руки, множество светлых, движущихся, ждущих рук вокруг зеленого стола; руки, выползающие из берлог-рукавов, каждая как хищный зверь, готовый к прыжку, каждая другого цвета и формы, одни голые, другие окованные колодами и звенящими браслетами, одни покрытые волосами, как дикие звери, другие вялые, как тело в ванне, но все напряженные, трепещущие от страшного нетерпения. Я всякий раз невольно думала о беговой площадке, где у старта с трудом сдерживают возбужденных лошадей, чтобы они не вырвались раньше, чем надо. Все можно узнать по этим рукам, по тому, как они ждут, хватают и отдают. Жадный – скрючив пальцы, мот – свободным жестом, расчетливый – спокойно, отчаявшийся – с дрожью в суставах. Сотни характеров моментально выдают себя тем, как люди берут деньги: то согнутыми руками, то нервно сведенными, то утомленными, когда усталые ладони во время игры безучастно лежат на столе. Часто говорят, что человек выдает себя в игре. Я скажу, что еще больше выдает его в игре его собственная рука, потому что все или почти все игроки умеют владеть своим лицом. Они сгоняют морщины у рта, сжимают зубы, чтобы скрыть волнение, не позволяют глазам выдавать тревогу, укрощают дрожащие мускулы лица и придают ему фальшивое выражение якобы благородного равнодушия. Но именно потому, что их внимание всегда сосредоточено на том, чтобы подчинить себе лицо, они забывают о руках, забывают о том, что есть люди, которые наблюдают за этими руками и по ним отгадывают все – жадность, упрямство, нервность, равнодушие, усталость. Ибо неминуемо приходит минута, которая выводит эти напряженные или, казалось бы, сонные пальцы из их деланного спокойствия. В тот короткий миг, когда шарик рулетки падает в ячейку и называют число, в эту секунду эта сотня или даже сотни рук невольно производят свое особое, совсем индивидуальное, глубоко инстинктивное движение. И на меня, которая, благодаря этому пристрастию моего мужа, научилась совсем по-особому наблюдать эту арену рук, это скопление самых разнородных темпераментов действует более возбуждающе, чем музыка или театр. Вы себе представить не можете, каких только не бывает рук: дикие звери с волосатыми, скрюченными пальцами, которые по-паучьи сгребают деньги, и нервные, дрожащие пальцы с бледными ногтями, которые едва осмеливаются эти деньги взять, благородные и низкие, грубые и застенчивые, хитрые и как бы запинающиеся, но каждая в своем роде, каждая пара рук рассказывает о своей особой жизни, за исключением четырех-пяти пар рук крупье. Эти – только машины, они работают, как щелкающие, стальные рычаги счетчика, потому что они одни действуют деловым образом. Но именно эти безучастные руки производят поразительное впечатление, как противоположность их алчным и страстным собратьям. Они словно носят другую одежду, как полицейские, которые стоят среди бурной, возбужденной толпы. Особое удовольствие состоит еще в том, что уже через несколько дней близко узнаешь привычки и тревоги отдельных рук; у меня через самое короткое время всегда заводились среди них знакомые, и я делила их, как людей, которых я встречаю, на симпатичных и враждебных мне. Многие были так противны мне своей грубостью и жадностью, что я всегда должна была отводить взгляд, чтобы не повстречаться с ними. Каждая новая рука на столе была для меня источником новых переживаний и возбуждала мое любопытство. Часто я забывала даже посмотреть на лицо – эту холодную, светскую маску, втиснутую где-то высоко над предательскими пальцами в воротник и неподвижно укрепленную над крахмальной сорочкой смокинга или над сверкающей грудью.
Когда я вошла в тот вечер в зал и, равнодушно поглядев сначала на первый и второй столы, приготовила затем несколько золотых монет у третьего стола и взглянула на игорное поле, я вдруг услышала рядом, среди этого напряженного, не нарушаемого ни единым звуком молчания, которое всегда воцаряется у столов, когда шарик, смертельно устав, качается уже у последней цифры, я услышала какой-то странный шум, хрустение и треск, словно звук ломающихся суставов. Невольно я взглянула туда. И я увидела – мне поистине стало страшно – две руки, подобных которым я еще никогда не встречала: правая и левая, как разъяренные звери, судорожно сцепились друг с другом и так неистово тискали и сжимали одна другую, что суставы пальцев издавали сухой треск, как при раскалывании ореха. Это были исключительно изысканно красивые руки, с необыкновенно длинными, необыкновенно узкими пальцами, с туго напряженными мускулами, очень белые, с бледными, нежно округленными перламутровыми ногтями. Я смотрела на них целый вечер, поражаясь этим необыкновенным, единственным рукам, но что меня так страшно поразило в ту минуту, так это их страстность, их взволнованное выражение, та судорожность, с которой они сжимали друг друга. Я тотчас же почувствовала, что здесь доведенный до отчаяния человек передает кончиками пальцев свое страдание, чтобы оно не сразило его самого. И вот… в ту секунду, когда шарик с сухим, коротким стуком упал в углубление и крупье выкрикнул номер… в эту секунду обе руки вдруг упали порознь, словно два зверя, которых сразила одна и та же пуля. Они упали, поистине мертвые, а не только усталые, упали в таком пластическом образе бессилия, разочарования, сраженности, что я не могу передать этого словами. Ибо никогда в жизни, ни до того, ни после, я не видела больше таких говорящих рук, где каждый мускул был усталым, а каждый жест – выразителем чувства. Один миг плоско и безжизненно лежали они на зеленой гладкой поверхности стола, обессиленные, еле дышащие борцы. Потом с трудом начала подниматься на кончиках пальцев правая рука, дрогнула, отодвинулась, нервно схватила фишку, покатала ее, как колесико, между большим и указательным пальцами, наконец вобрала внутрь и зажала. Потом вдруг изогнулась по-кошачьи и бросила, прямо-таки выплюнула стофранковую фишку на середину черного поля. Тотчас же напряглась и взволновалась и оставшаяся позади левая рука. Она приподнялась, поползла, подкралась к дрожащей, словно усталой от броска сестре, и теперь обе они лежали, вздрагивая, и чуть-чуть постукивали суставами по столу, с легким треском, как при ознобе стучат зубы. Нет, никогда я не видела таких невероятно выразительных рук, такой судорожной формы волнения и напряжения. Все остальное в этом сводчатом зале – глухой говор посетителей, рыночные выкрики крупье, слоняющиеся люди и, наконец, сам шарик, который, брошенный с высоты, опять как одержимый запрыгал в своей круглой лакированной клетке, – все это шумное, яркое, резкое множество мелькающих впечатлений показалось мне вдруг мертвенным и тусклым рядом с этими дрожащими, дышащими, трепещущими, ждущими, зябнущими, содрогающимися, рядом с этими невиданными руками, от которых я как зачарованная не могла отвести взгляда.
Но наконец я не могла больше удержаться, я должна была взглянуть на лицо, взглянуть на человека, которому принадлежали эти волшебные руки, и боязливо – да, боязливо, ибо я страшилась этих рук, – мой взгляд начал медленно подниматься по рукаву, по узким плечам к тому, чужому лицу. И снова я ужаснулась, ибо это лицо говорило так же сказочно напряженно, как и руки, у него было такое же страшное, страдальческое выражение и такая же нежная, почти женская красота. Никогда я не видела такого лица, такого хлынувшего наружу, такого ушедшего, оторвавшегося от самого себя лица, и мне была предоставлена полная возможность спокойно разглядывать его, как маску, как картину, ибо его глаза не глядели, не замечали окружающего, ни шума, ни людей, ни предметов. Завороженные, пылая таким безумным возбуждением, что никаких слов не хватило бы это описать, они оцепенело следили только за черным шариком, который, резко стуча и чуть ли не вызывающе, как играющее животное, быстро прыгал в своей круглой клетке. Никогда, я должна это повторить, не видела я такого напряженного, такого поразительного лица. Оно принадлежало молодому человеку лет двадцати четырех. Это было узкое, нежное, продолговатое и потому такое выразительное лицо. Так же как и его руки, оно казалось совсем не мужским. Это было скорее лицо страстно играющего мальчика. Но все это я заметила только потом, потому что в тот момент на этом лице отражались только жадность и бешенство. Томящийся жаждой, приоткрытый маленький рот наполовину обнажал зубы; на расстоянии десяти шагов можно было видеть, как лихорадочно они стучат, а губы оставались неподвижно раскрытыми, как бы для готового вырваться крика. Ко лбу прилипли мокрые, светлые, нежные волосы, спутавшись, словно у падающего человека, а у ноздрей что-то трепетало непрерывно, как будто под кожей пробегали невидимые волны. Эта склоненная голова все время бессознательно устремлялась вперед, и вам невольно казалось, что вот-вот она сорвется с места и начнет кружиться вместе с шариком; и тут я поняла это судорожное сжимание рук: только это сопротивление, только эта судорога и удерживали в равновесии порывающееся вперед тело.
Я никогда не видела – повторяю это еще раз – такого лица, на котором так открыто и неприкрашенно отражалась бы страсть, и я так же пристально, так же зачарованно глядела на это лицо, была с такой же силой прикована к этому безумному лику, как оно само глядело на прыжки кружащегося шарика. С этого мгновения я уже ничего не замечала в зале, все казалось мне тусклым, неясным, расплывчатым, темным в сравнении с этим пылающим лицом, и, забыв обо всех остальных, я, может быть, целый час глядела на одного этого человека, наблюдала каждый его жест. Я видела, как в его глазах вспыхнуло яркое пламя, как, словно от взрыва, разорвался судорожный узел рук, раскидывая дрожащие пальцы, когда крупье пододвинул к ним звенящей лопаткой двадцать золотых монет. В это мгновение лицо стало вдруг ясным и совсем молодым, морщины мягко разгладились, радостно засветились глаза, и согнутое тело светло и легко выпрямилось; он сидел статно, как всадник, охваченный победным ликованием, а пальцы шаловливо и влюбленно сгребали круглые монеты, стукали ими одна о другую, играя и позванивая. Потом он снова беспокойно повернул голову, окинул глазами зеленое поле, как молодая охотничья собака, которая, обнюхивая, ищет след, и вдруг порывистым движением бросил всю золотую стопку на один из углов. И тогда снова началось это выжидание, это напряжение. Снова побежали от губ к носу эти дрожащие волны, снова судорожно сжались руки, и мальчишеское лицо исчезло в алчном пылании ждущих глаз, пока вдруг опять это порывистое напряжение не распалось в разочаровании: юношески возбужденные черты поблекли, стали вялыми и старыми, глаза безжизненными и тусклыми, и все это произошло в течение одной секунды, когда шарик упал не на то число. Он проиграл. Секунды две смотрел он тупо, словно не понимая, затем, под подбадривающими, подстегивающими возгласами крупье, его пальцы снова тяжело приподнялись, протащили вперед, как тяжелое бремя, несколько золотых монет. Но уверенность была уже потеряна. Сначала он подвинул золото на одно поле, потом, передумав, на другое, и, когда шарик был уже в движении, он бросил дрожащей рукой, следуя внезапному наитию, в узкий четырехугольник еще две скомканные ассигнации.
Эта порывистая смена проигрышей и удач длилась около часа, и в течение всего этого часа я ни на миг не отводила завороженного взгляда от этого беспрестанно меняющегося лица, по которому, приливая и отливая, струились страсти, я не спускала глаз с этих волшебных рук, которые каждым мускулом пластически отражали взлет и падение чувств. Никогда в театре я не всматривалась с таким напряжением в лицо актера, как в это лицо, где, словно бегущие по земле свет и тени, безостановочно сменялись все краски и ощущения. Никогда в игре мое напряжение не достигало такой силы, как созерцание этого чужого волнения. Если бы кто-нибудь наблюдал за мной в это время, то мой пристальный, стальной взгляд показался бы ему гипнотическим, впрочем, мое полное оцепенение и было чем-то в этом роде: я не могла отвести взгляда от этого лица, и все остальное в этом зале – свет, смех, люди, взгляды едва ощущались мною, как какой-то желтый дым, среди которого было это лицо – огонь среди огней. Я ничего не слышала, ничего не чувствовала, я не видела, как рядом со мной проталкивались люди, как, словно щупальца, протягивались упругие руки, бросали или брали деньги, я не видела шарика и не слышала голоса крупье, и в то же время видела все происходящее, как во сне, по этим рукам и по этому лицу, совершенно отчетливо и словно увеличенно, будто в вогнутом зеркале, благодаря их возбуждению и безудержности, потому что, падал ли шарик на красное или на черное, катился или останавливался, оказывался ли выигрыш или проигрыш, – все отражалось на этом лице с невиданной страстностью и живостью, и вместе с тем с изумительной отчетливостью.
И вот настал страшный миг – миг, которого я все время смутно боялась, который нависал над моими напряженными нервами, словно гроза, и вдруг по ним ударил. Снова шарик с коротким стуком упал в свое углубление, снова минула короткая секунда, когда замирают двести человек, пока наконец голос крупье не возвестил: «Ноль!» и его услужливая правая рука не начала сгребать со всех сторон звенящие монеты и хрустящие ассигнации. В это мгновение обе скрученные руки сделали какое-то особое, странное движение, они как бы подскочили, хватая что-то, чего не было, и потом, словно рухнувший камень, смертельно утомленные, упали на стол. Затем они снова лихорадочно ожили, сбежали со стола к телу, вскарабкались по туловищу, как дикие кошки, забегали вверх, вниз, вправо, влево, нервно шаря по всем карманам, не спряталась ли там где-нибудь забытая золотая монета. Но они всякий раз возвращались и снова, все возбужденнее, принимались за эти безумные, бесполезные поиски, а рулетка уже опять вертелась, игра продолжалась, звенели монеты, отодвигались стулья, и сотни разных шумов наполняли зал. Я дрожала от ужаса: я так остро ощущала происходящее, словно это мои собственные руки отчаянно ищут хотя бы один золотой в карманах и складках измятого платья. И вдруг быстро человек, там, напротив, разом встал, как встают, когда чувствуют себя плохо и вскидывают голову, чтобы не задохнуться; позади него с грохотом упало кресло. Не обращая на это внимания, не видя людей, которые боязливо и удивленно расступились перед этой шатающейся фигурой, он тяжело отошел от стола. Его лицо мертвенно поблекло, ко лбу прилипли влажные, спутанные волосы, а руки безжизненно болтались, как у марионетки, при каждом его слепом, шатающемся шаге.
Я словно окаменела в этот миг. Я тотчас же поняла, куда идет этот человек: он идет на смерть. Кто так встает, как он, тот не идет обратно в гостиницу, в ресторан, к женщине, к поезду, он не идет туда, где жизнь, он падает в пропасть, и даже самый черствый в этом адском зале человек должен был знать, что у того, кто ушел, нигде уже не было опоры – ни дома, ни в банке, ни у родных, что он сидел тут со всеми своими деньгами, со всей своею жизнью и теперь побрел куда-то прочь от жизни. Я все время боялась и, как только взглянула на это лицо, почувствовала, что в этой игре есть что-то большее, чем проигрыш и выигрыш, и всей силой своего напряжения я ощущала, что эта человеческая страстность уничтожит самое себя. И вдруг словно черная молния обрушилась на меня, когда я увидела, как жизнь ушла из его глаз и смерть вяло мазнула по этому еще за миг до того слишком живому лицу. Его выразительные жесты настолько заворожили меня, что я невольно судорожно сжала руки, когда этот человек оторвался от своего места и побрел прочь, потому что эту неверную походку я чувствовала своим собственным телом, так же как раньше каждым своим нервом, каждой жилой ощущала его напряжение. И вдруг что-то толкнуло меня, я должна была пойти за ним, я должна была видеть, что с ним случится. Я не сознавала, что я делаю. Не глядя ни на кого, не чувствуя самое себя, я шла, я бежала по коридору к выходу Он стоял в гардеробной, служитель подавал ему пальто. Но руки его уже не слушались, и служитель старательно помогал ему, как больному, всунуть руки в рукава. Я видела, как он машинально полез в жилетный карман, чтобы дать ему на чай, но пальцы снова ничего не извлекли оттуда. Тогда он как будто опять вспомнил все, что-то смущенно пробормотал служителю, рванулся, как перед тем, вперед и тяжело, словно пьяный, начал спускаться по ступеням казино, а служитель с презрительной было, а потом с понимающей усмешкой посмотрел ему вслед.
Его движения были так потрясающи, что мне стало стыдно смотреть. Я невольно отвернулась, смущенная тем, что случайно увидела, словно на сцене, чужое страдание; но потом снова этот непонятный страх толкнул меня. Я быстро оделась и, не думая ни о чем, механически сбежала со ступеней, спеша во тьму за этим чужим человеком.
Миссис К. прервала на минуту рассказ. Она сидела неподвижно против меня и со своим особым спокойствием и деловитостью говорила почти без пауз, как говорит тот, кто внутренне приготовился и расположил по порядку все эпизоды. Тут она в первый раз запнулась, помедлила, потом обратилась прямо ко мне.
– Я обещала вам и себе самой, – начала она немного взволнованно, – рассказать все с полной откровенностью. Однако я должна теперь же потребовать от вас, чтобы вы отнеслись к моей откровенности с полным доверием и не приписывали мне никаких скрытых мотивов, которых я могла бы теперь и не стыдиться, но которых в данном случае совершенно не было. Итак, я должна подчеркнуть, что, когда я поспешила за этим несчастным игроком на улицу, я вовсе не была влюблена в этого молодого человека. Я вовсе не думала о нем как о мужчине. После смерти моего мужа я, уже сорокалетняя женщина, не обращала внимания на взгляды мужчин. Для меня это было безвозвратное прошлое. Я говорю вам это и должна это вам сказать, потому что иначе вам не будет понятен весь ужас того, что случилось потом. Впрочем, мне все-таки трудно было точно назвать то чувство, которое тогда с такой силой влекло меня к этому несчастному: здесь было любопытство и прежде всего ужасный страх или, лучше сказать, страх перед чем-то ужасным, что я с первой же секунды невидимо почувствовала вокруг этого молодого человека, словно облако. Но такие ощущения нельзя отделять одно от другого, нельзя расчленять уже потому, что они слишком сильно, слишком быстро, слишком самопроизвольно следуют друг за другом и лежат по ту сторону спокойного размышления; наверное, это было всего лишь инстинктивное движение, которым на улице оттаскивают назад бросившегося под автомобиль ребенка. Разве можно объяснить, почему человек, который сам не умеет плавать, бросается с моста на помощь утопающему? Просто тайная сила толкает его вперед, и у него нет времени подумать, как безумно, как опасно для него самого его намерение; совершенно так же, не думая, не отдавая себе отчета, я пошла за несчастным из игорного зала к двери и от двери на террасу.







