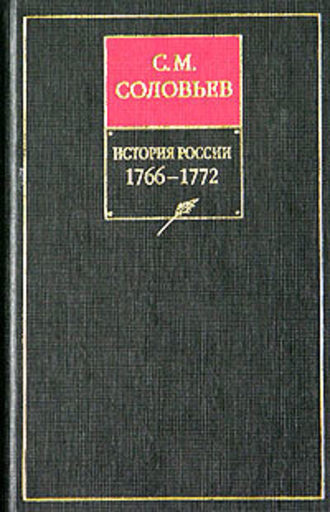
Сергей Соловьев
История России с древнейших времен. Книга XIV. 1766–1772
12 июля Фридрих писал Сольмсу, что Австрия отказывается от воеводств Люблинского и Хельмского, но никак не хочет отказаться от соляных копей и города Львова и что это последнее слово венского двора. «Зрело размыслив, – писал король, – я вам признаюсь, что, по-моему, если хотят кончить это дело добром, надобно принять австрийские условия. Впрочем, я не предписываю России, как она должна поступить в этом случае, я просто объявляю вам мое мнение». В другой депеше (от 5 августа) король изложил причины, заставлявшие его уступить Австрии: «Переговоры с Портою не привели еще ни к чему; Франция и Англия дурно смотрят на раздел Польши. Быть может, оба эти двора употребляют все усилия, чтоб оттянуть венский двор от русско-прусской системы и заставить его скорей войти в соглашения с Турциею. Если эта интрига им удастся, то мирный конгресс рушится, дела запутаются снова гораздо сильней, чем прежде, и для распутания их встретятся непреодолимые трудности». Депеша Фридриха от 12 июля (н. с.) была прочтена Совету 16 июля (с. с.) вместе с ответом венского двора на русские возражения относительно соляных копей и Львова. Кауниц писал, что его двор соглашается исключить из своих требований воеводства Люблинское и Хельмское, но не может уступить соляных копей и Львова; вместо соляных копей можно отдать польскому королю означенные воеводства, согласиться с Польскою республикою о цене соли при постановлении договора и перевезть шляхетские акты из Львова в Люблин. Решено было согласиться на это и заключить и с венским двором конвенцию о разделе.
31 июля Фридрих писал Сольмсу: «Барон фан-Свитен только что вышел от меня. Он мне сообщил новый проект манифеста о занятии польских областей, который кн. Кауниц сам написал и который в сущности не отличается от манифеста графа Панина. Австрийский министр того мнения, что так как есть разница в положении его двора и русского, то должна быть разница и в манифесте. Я прочел проект внимательно и не нашел ничего сказать против. В политике общее правило: если неопровержимых доказательств нет, то лучше выражаться лаконически и не очень вдаваться в подробности. Я знаю хорошо, что у России много прав поступить так с Польшею, но нельзя того же сказать об нас с Австриею, так что, по моему мнению, лучше сообразоваться с идеями князя Кауница».
Когда все было кончено относительно Польши, то в Вене решили дать знать и Фридриху о своих видах на Турцию. 30 августа Фридрих писал Сольмсу: «Несколько дней тому назад я виделся в Нейссе с графом Дидрихштейном, который, как я думаю, был туда отправлен, чтоб попытать меня. Из его разговоров я вижу ясно, что император и Ласси недовольны приобретениями от Польши. Им бы хотелось выгнать турок из Европы и овладеть всею венгерскою землею, находящеюся на левом берегу Дуная. Они были бы довольны, если б фокшанские конференции прекратились, чтоб помочь русским выгнать турок из Европы, и в таком случае они, пожалуй, согласятся, чтоб Россия взяла себе Молдавию и Валахию. Я думаю, что им очень хочется заключить для этого союз с Россиею, но они боятся, чтоб французы и испанцы не сделали им диверсии в Италии и Фландрии, и потому обращаются ко мне. Для привлечения меня на свою сторону они откажутся от всех приобретений в Польше с тем. чтоб я мог получить для себя течение Варты и все, что пожелаю, в соседстве Силезии. Я хотел узнать, что они намерены сделать с Грециею, но они об этом еще не думали. Я желаю, чтоб граф Орлов заключил мир с турками; но если этого не случится, то мы увидим новую сцену, дело пойдет о союзном договоре, которым венский двор, вероятно, предполагает все определить со своими новыми союзниками. Я отвечал спокойно, что все это дело возможное, успеть в нем нетрудно, если согласиться и действовать искренне, но что должно сначала посоветоваться обо всем с русскою императрицею. Что меня больше всего порадовало, в этих откровениях, так это то, что граф Дидрихштейн вовсе не скрывал дурных отношений, господствующих теперь между его двором и версальским». Сольмс должен был сообщить об этом Панину in extenso.
Прусский посланник в Вене Эдельгейм уведомил своего государя, что Мария-Терезия в большой нерешительности относительно польских дел. Она выставляет угрызение совести, которое причиняет ей соглашение о разделе Польши, и в минуты дурного расположения духа сильно упрекает императора, своего сына, за то, что его свидания с королем прусским послужили первым источником затруднений, в каких она теперь находится. Император очень на это досадует, и утверждают, что ежедневные ссоры между матерью и сыном стали теперь чаще и сильней. Кн. Кауниц, имея большое участие в том, что произвело эти сцены, становится на сторону императора. Сообщая эти известия Сольмсу, Фридрих писал ему (15 ноября): «Гр. Панину нечего этого бояться. Надобно дать свободу действия кн. Кауницу, который, как ловкий министр, знающий расположение духа и характер своей государыни, найдет средство успокоить ее боязливую совесть». В другой депеше (21 ноября) Фридрих уведомлял Сольмса, что Мария-Терезия продолжает терзаться угрызениями совести и прибегла к казуистам. Духовник отвечал, что, не зная законных прав ее на взятые польские области, он не может смотреть на ее предприятие как на большой грех. Другие духовные лица отвечали, что законы, которыми руководятся государства и государи, отличны от законов, которыми руководятся частные лица, и что есть случаи, где императрица может руководствоваться только политическим интересом. Последнее решение приписывают иезуитам.
15 августа в Совете Екатерина подписала рескрипт графу Захару Чернышеву о вступлении между 1 и 7 числами будущего сентября во владение присоединяемых от Польши земель. Чернышев, который первый высказался в пользу этого присоединения, назначен был генерал-губернатором Белоруссии. Прусский король 27 сентября (н. с.) принял присягу от жителей польской Пруссии и в тот же день написал Сольмсу: «Вы скажете гр. Панину, что он может уверить императрицу моим именем, что нынче, в день присяги от Пруссии, я ее уверяю, что она обязала не неблагодарного человека; я не упущу ни одного случая засвидетельствовать ей и России мою признательность не на словах, а на деле».
Что же делалось в Польше в 1772 году, когда судьба ее окончательно решалась между тремя соседними дворами?
В начале года главным предметом разговоров, главным интересом были по-прежнему притеснения от прусских войск. Французский агент доносил своему двору: «В то время как прусский король становится все более и более ненавистен, кажется, Россия хочет смягчить прежнее обращение с поляками, чему служит доказательством приказ Бибикова, требующий от войск строгой дисциплины. Только и разговоров, что о прусских притеснениях, которым особенно подвергается духовенство, и Бенуа объясняет это дело тем, что духовенство главным образом виновато в смуте, и, стесняя духовенство, король вместе с Россиею содействует умиротворению Польши». Только от 29 февраля (н. с.) агент пишет: «В поступках прусского короля обнаруживаются стремления приобресть выгоды постоянные: он хочет овладеть Вармийскою провинциею, потому что его генералы вытребовали у епископа архив». Жерар в Данциге знал дело лучше и 5 марта уведомил свой двор о заключении договора относительно раздела Польши, тогда как товарищ его в Варшаве только 25 марта писал: Сальдерн говорит, что дело кончится плохо для Польши, прусский король непременно получит польскую Пруссию. С другой стороны, видно, что дворы русский и австрийский сближаются; быть может, венский двор согласится на усиление Пруссии, если ему возвратят Силезию или оставят в его власти польские области, которыми он овладел; Россия также будет стараться вознаградить себя на счет Польши. Итак, по-видимому, Польша накануне того дня, в который станет добычею своих соседей. 16 мая агент из Варшавы доносил: «Хотя общее мнение считает раздел Польши делом решенным, но Чарторыйские утверждают, что это вздор».
В самом начале года коронный канцлер Млодзеевский приехал к Сальдерну с жалобами на прусские притеснения. «Не считаете ли вы приличным, – говорил он, – чтобы король обратился к ее и. в-ству, отправил к ней министра для уведомления о поступках и притеснениях прусского короля?» Сальдерн воспользовался случаем, чтоб высказаться. «Я думаю, – отвечал он, – что императрица не примет никакого посла от Польши, пока смута продолжается. Ее и. в-ство очень хорошо помнит все происшедшее здесь в продолжение многих лет; она замечает не только равнодушие польского двора относительно ее, но и явное сопротивление всем ее добрым намерениям. Как вы хотите, чтоб императрица заступилась за Польшу перед прусским королем, когда это единственный государь, который действует единодушно с нею в настоящих делах, и как вы можете думать, чтоб моя государыня захотела сделать неприятность другу, заступаясь за поляков, которые ни теплы, ни холодны и на которых можно смотреть как на врагов России? Я говорю не об одних конфедератах, но обо всех тех, которые хотя не замешаны открыто в настоящие смуты, но действуют под рукою и наполняют Варшаву, я не исключаю даже и двора. Ее и. в-ство не забудет холодности, невнимания, непоследовательности и неправильности в поступках, какие король и его фамилия позволили себе, покровительствуя части народа, возмутившейся против своего короля, поддерживаемого моей государыней. После моей декларации я несколько раз имел разговоры с дядьми короля и вице-канцлерами и объявил им о намерениях ее и. в-ства успокоить Польшу, излагая им, что императрица согласна на изменения в самых существенных пунктах последнего договора, именно даст объяснения относительно гарантии и не откажется ограничить права диссидентов в том случае, если они согласятся сами пожертвовать частью своих прав для отнятия предлога у злонамеренных людей продолжать разбойничества под религиозным знаменем. Что же касается внутренних дел, то императрица требовала только сохранения liberum veto для всей шляхты. Они были очень довольны; но захотели ли воспользоваться добрыми намерениями ее и. в-ства, приступили ли к делу? Князь, воевода русский, сказал, что у нас мало войска в Польше для поддержания этого дела; что республика находится в кризисе и положение ее таково, что не может ухудшиться. Я очень хорошо понимаю смысл этих слов: воевода хотел сказать, что у нас на плечах война, которая может пойти для нас неудачно, ибо он не мог не знать, что у нас в Польше 12000 войска – число очень достаточное для их поддержания, если б они захотели серьезно воспользоваться нашим добрым расположением, вместо того чтоб увеличивать смуту своим бездействием. Короля и республику никто не поддерживает, кроме императрицы; но оказывается ли к ней доверие? Король обращается в другую сторону, обольщаясь надеждою, что может найти подпору в соседе, который до сих пор не оказал ему ни малейших знаков дружбы и пользы, наоборот, покровительствует людям, посягающим на власть и жизнь короля. Венский двор знает и видит все, что король прусский делает в Польше. В другое время он не смотрел бы на это равнодушно. Теперь Австрия не только овладела польскими землями, но, быть может, имеет еще какие-нибудь скрытые виды. Императрица требует у короля и республики благоразумной дружбы, основанной на поддержании естественной польской конституции. Если король и его друзья предпочитают оставаться в бездействии и упорствовать в своем равнодушии, то не ее вина, если она примет меры, соответствующие ее достоинству и интересам ее империи. Я предсказываю, что Польша должна ждать крайней смуты. Не раз я давал вам чувствовать, что прошлое лето вы упустили самую благоприятную минуту успокоить Польшу вашими собственными силами при поддержке России; я давал вам чувствовать, что по упущении этой благоприятной минуты успокоение Польши уже не будет более зависеть от свободной нации, но что вы получите законы и мир из рук ваших соседей. Когда начались жалобы на. поведение короля прусского, то никогда не скрывал я ни от короля, ни от вас, что прусский король будет для вас еще тягостнее и что он более всех пользуется смутою польскою».
Обвинительная речь и приговор по ней были произнесены. Это было последнее объяснение Сальдерна, после чего посол еще настойчивее стал просить об увольнении. В письме от 24 января он умолял императрицу отозвать его из Варшавы или по крайней мере не оставлять его там долее сентября, представляя совершенное расстройство здоровья. Панину Сальдерн писал: «Я не сплю больше, желудок у меня уже больше не варит». Но его оставили до сентября, и поведение его определялось в письме Панина от 28 февраля: «Настоящее положение наших дел с венским двором изменяет совершенно сущность комбинаций, движений и интриг во всем касающемся вашего поста. Вдруг теряет значение множество дел, которые иначе заслуживали бы некоторого внимания с нашей стороны, как, например: 1) тонкая штука Чарторыйских выслужиться своим посредничеством при сближении двух дворов. Это сближение уже произошло, и мы можем поблагодарить Чарторыйских за их услугу только доставлением им удовольствия нечаянности, представляя им узнать об этом соглашении из его последствий. В ожидании развязки они могут вести свою секретную переписку, которой придают такую важность. 2) Равным образом мы должны отвечать молчанием на жалобы поляков против Пруссии. Наше соглашение с прусским королем подписано, после чего было бы противоречием с нашей стороны обращать внимание на жалобы против войск этого государя; наш интерес требует, чтоб он теснил все сильнее и сильнее поляков и был бы в состоянии помочь нам при окончательных объяснениях с Польшею».
В конце мая в Мариенбурге прусский офицер объявил польскому чиновнику, что присоединение польской Пруссии не есть секрет, что это последует по договору с Австриею и Россиею. Польское министерство тотчас же дало знать об этом иностранным министрам в следующих выражениях: «Несчастная Польша, опустошаемая 5 лет собственными жителями и соседями, будет лишена лучших провинций державами, с которыми у нее не было никакого столкновения, которым она не подала никакого законного предлога к жалобе, а на одну из них имела право возлагать надежду и доверие. Как бы жестоко и насильственно ни было поведение России относительно Польши, как бы ни было несправедливо предприятие прусского короля, поступок венского двора, нося тот же характер насилия и несправедливости, является еще более ненавистным, ибо соединен с хитростию и двоедушием».
Сальдерн в глубоком официальном молчании доживал последние дни в Варшаве. Поляки видели в нем падшее величие и потому обратили все свое внимание на Бибикова. Сальдерн не утерпел и послал к Панину донос на главного военного начальника. «Поведение Бибикова, – писал он, – вовсе не соответствует русской системе. Король, его братья и дядья поймали егоза слабую сторону: им управляют женщины, жена маршала Любомирского, гетмана Огинского и другие подставленные королем, чтоб не дать ему прийти в себя. Чарторыйский-канцлер, эта старая лисица, вызвал с тою же целию из Литвы дочь Пршездецкого. Бибиков делает все, что эти люди внушают ему посредством женщин; ему не дают ни одного дня отдыха, чтоб он мог опомниться: то охота, то загородная прогулка, то бал, развлечения всякого рода, сопровождаемые самою низкою лестью и угодничеством со стороны поляков, держат его в цепях. Он не пропускает ни одного вечера у госпожи Огинской, бывать у которой генерал Веймарн запретил русским офицерам по причине поведения ее мужа и фамилии и по причине азартной игры. Но теперь все позволено. Бибиков забывается до такой степени, что преследует всех тех, которых ненавидят Чарторыйские и брат короля. Судите, сколько случаев имеет войсковой начальник притеснять, кого захочет. Я употреблял все средства для удержания его от этого и иногда успевал, особенно когда обращался к нему письменно: он боялся, что отошлю копии ко двору. У него нет секрета, как скоро найдено средство возбудить его тщеславие. Лень, которая берет начало в образе его жизни, останавливает движение дел; часто случается, что более 60 приказов по осьми дней лежат без подписи».
Но подобные донесения теперь вредили только самому Сальдерну. Он отправился в Польшу, по крайней мере по общему мнению, как друг, как самый близкий человек к первенствующему министру графу Панину, а возвращался в Петербург далеко не с таким значением. Недаром ему не хотелось ехать в Варшаву. Он имел славу искуснейшего дельца, и, чем сильнее были возбуждены надежды отправлением его в Польшу, надежды, что он успеет уладить тамошние дела, тем опаснее было потерять прежнюю репутацию неуспехом действий; а неуспех должен был казаться Сальдерну очень и очень возможным, особенно когда дело уже делалось с другого конца и делал его король прусский. Мы видели столкновение Фридриха II с Сальдерном по поводу Северной системы, после чего прусский король почтил русско-голштинского министра своею ненавистию, которая не могла уменьшиться от борьбы Сальдерна в Копенгагене против прусского влияния. Сальдерн, разумеется, платил Фридриху тем же чувством. Когда он был назначен и Варшаву, то прусский король выразился о нем так в разговоре с фан-Свитеном: «Это человек заносчивый, упрямый, самолюбивый, думающий о себе Бог знает что». Но если Фридриху могло не нравиться присутствие Сальдерна в Варшаве, то еще более не должно было ему нравиться присутствие его в Петербурге в самое важное время, когда решался польский вопрос; понятно, как выгодно было для прусского короля, чтоб в это время при первенствующем русском министре не было человека, враждебного Пруссии, твердившего, что ввиду сдержания последней необходимо сближение с Австриею. Действительно, нельзя не заметить, что с отъездом Сальдерна Панин все более и более уступает прусскому влиянию; и есть известия, что отсутствием Сальдерна искусно воспользовались в Берлине. Английский посланник в Петербурге Гуннинг доносил своему двору, что прусский король, давно заметив в графе Панине сильнейшее тщеславие, постарался питать эту страсть так искусно, что сделал первенствующего министра полным своим приверженцем. Подарки хотя и незначительной ценности, но частые и всегда сопровождаемые собственноручными письмами, наполненными самыми лестными выражениями, достигли цели, заставили Панина смотреть на каждое дело согласно с видами его прусского величества; Панин чуть не обожает Фридриха II. Но если так, то легко понять, как Панин должен был смотреть на своего старого друга Сальдерна, который остался при прежних своих чувствах к прусскому королю и не упускал случая высказывать эти чувства, что было хорошо известно Панину явными и тайными путями. Мы видели, что Сальдерн сам передал Панину разговор свой с Млодзеевским, где выставил Фридриха II как государя, более всех пользующегося польскою смутою. Но в других случаях он выражался еще яснее и сильнее. Жерар доносил из Данцига от 6 мая: «Царица чувствует неловкость своего положения и желает, чтоб другие государства восполнили ее бессилие, разрушивши проекты прусского короля. Этот образ мыслей Екатерины II подтверждается словами Сальдерна, которые он с некоторого времени повторяет, именно что король прусский обманул его государыню». Сальдерн позволил себе сказать городовому секретарю Данцига: «Императрица вовсе не одобряет видов короля прусского, но великая нужда в мире заставляет ее закрыть глаза и согласиться на исполнение плана этого государя». Мало того, Сальдерн поручил секретарю предложить магистру присоединиться к городам Торну и Эльбингу и просить или совершенной независимости, или возможности оставаться под покровительством польского короля. Австрийский уполномоченный в Варшаве барон Ревицкий доносил своему двору, что Сальдерн решительно порицает действия первенствующего русского министра. «Без самого тесного союза между Россиею и Австриею, – говорил Сальдерн Ревицкому, – прусский король удалит оба императорские двора на задний план и сам получит важнейшие выгоды». По свидетельству того же Ревицкого, Сальдерн хотел сломить значение магнатов в Польше и некоторым образом уравнять имущественные отношения между частными лицами: он думал помирить народное большинство с разделом Польши надеждою освобождения от притеснений, какие оно терпело от своих соотечественников. Но Панин не согласился на это.
Преемником Сальдерна в Варшаву назначен был действительный камергер барон Штакельберг. По поводу этого назначения английский посланник писал своему министерству: «Так как здесь ничего не делается без совета короля прусского, то лицо, назначенное на место г. Сальдерна, было избрано согласно с его мнением, ибо его гибкий и применяющийся к обстоятельствам характер, по словам его прусского величества, идет к этому посту более, чем характер его предшественника». Мы знаем одно, что Штакельберг поехал с сильными предубеждениями против своего непосредственного предшественника.
В инструкции Штакельбергу, подписанной 11 августа, так объяснялись побуждения, заставившие Россию приступить к разделу польских владений: «Небезызвестно вам, что на польские дела и вследствие их происшедшую войну между Россиею и Турциею совершенно разно смотрели два двора – венский и берлинский. Первый находился в тесном союзе с Франциею, которой политика, всегда противоборствующая политике русской при всех дворах, усиливала и подкрепляла польские мятежи людьми, и деньгами, и воплями своими, и интригами, при помощи больших денег заставила Порту объявить России войну. Подчиняясь влиянию такого союзника, венский двор и сам благоприятствовал конфедератам, давая им убежище в своих землях; не меньше доброжелательства оказывал он Порте. Прусский король, напротив, верно исполнял обязательства союзных договоров, платил субсидии, удерживал на границах шайки конфедератов, внимательно наблюдал за поступками австрийского дома, показывая всегда готовность уведомлять о них своего союзника. Среди двойных забот России в войне с Портою и польскими мятежниками венский двор признал, что нашел удобный случай заплатить себе собственными руками за доброжелательство, оказанное им как Порте, так и конфедератам, и, не прикрывая своих поступков никаким правом или предлогом (?), овладел землями Ципса. Чем меньше русский и берлинский дворы оказали явного внимания к этому движению, тем более подвергли они его обсуждению во внутренности Кабинета, совещаясь друг с другом, как приспособить к этому явлению собственные меры. Надобно было признать одну из мер: или явно протестовать против поступка Австрии, завести переговоры, чтоб принудить венский двор отступиться от захваченной им земли, в случае неуспеха переговоров воспротивиться вооруженною рукою, вступить в войну с Австриею, или поступить одинаково с венским двором, предъявить и с своей стороны претензии на известные польские земли. Так как для равновесия, наблюдаемого между тремя дворами, требовалось, чтоб они или ничего не приобретали от Польши, или чтоб каждый получил одинаковое приращение, то здравая политика предоставляла на выбор одну из двух мер, и ее в-ству осталось принять в уважение, которая из них более может подать способов к скорейшему успокоению Польши и сходнее с правосудием. Императрица не должна была долго колебаться в своем решении. Новая война с державою, граничащею с Польшею на таком большом протяжении земли, служила новою пищею для польских возмущений, и, таким образом, успокоение Польши отдалялось на все время этой новой войны. Императрица подвергала государство свое убыткам и опасности, и за кого? За нацию, для которой она в продолжение стольких лет понапрасну жертвовала величайшим числом людей и денег! За нацию, которая за услуги, благодеяния и бескорыстие платит самою явною неблагодарностию, которая не только вела против нее открытую войну, но еще возбудила против нее неприятеля, опаснейшего для ее государства! Другая сторона дела, наоборот, представляла дружественное содействие трех держав для умиротворения Польши, для решения всех вопросов, которые рано или поздно могли возжечь войну между тою или другою из них и республикою; для сокращения границ последней, чтоб дать ей положение, более сообразное с ее конституциею и с интересами ее соседей, наконец, для самого главного, для сохранения мира в этой части Европы. Взвесивши все эти соображения и принявши решение, императрица занялась средствами для приведения его в исполнение».
7 сентября вместе с прусским министром Бенуа (австрийский, барон Ревицкий, еще не приезжал) Штакельберг передал министерству Польской республики объявление о разделе. Начались частые совещания между королем и его приближенными; следствием было решение сносить все терпеливо, ничего не уступать добровольно, пусть берут все силою, и требовать помощи у дворов европейских, при этом проволакивать время, противопоставляя требованиям трех держав целый лабиринт привязок и формальностей. Король перед одними гремел против России, другим внушал, что русская императрица согласна вместе с ним на образование конфедерации против раздела; он даже дал знать об этом австрийскому послу, чтоб поссорить три державы. Штакельберг вследствие этого старался внушить полякам, что Россия не покровительствует королю, и так как Чарторыйские более не монополисты русских сношений с Польшею, то нация не подвергается опасности быть обманутою. В конце октября Штакельберг имел объяснение с королем. Станислав-Август приготовился и дал полную свободу своему красноречию: «Претерпев столько страданий за отечество, запечатлев своею кровью дружбу и приверженность к императрице и видя, что государство мое обирают самым несправедливым образом, а меня самого доводят до нищеты, я понимаю, что меня могут постигнуть еще большие бедствия, но я их уже не боюсь. Убитый, умирающий почти с голоду, я научился – погибнуть». Штакельберг отвечал спокойно: «Красноречие в. в-ства и сила вашего воображения перенесла вас к лучшим страницам Плутарха и древней истории; но все это не может служить предметом нашего разговора; удостойте снизойти к истории Польши и к истории графа Понятовского». За этим посол изложил ход событий, поведших к несчастию, которое оплакивал король, от прошедшего Штакельберг перешел к настоящему и предложил вопрос: что станется с ним, королем, если 100000 войска наводнят Польшу, возьмут контрибуцию, заставят сейм подписать все, что угодно соседним державам, уйдут, оставя его в жертву злобы врагов его? Король побледнел. Штакельберг воспользовался этим и начал доказывать ему, что его существование зависит от двух условий: от немедленного созвания сейма и отречения от всякой интриги, которая имела бы целию ожесточать поляков и вводить их в заблуждение. Король обещал делать все по желанию посла.
Штакельберг еще не привык к варшавским нечаянностям и потому не верил своим ушам, когда через два дня после приведенного разговора король призвал его опять к себе и объявил, что считает своею обязанностию отправить Браницкого в Париж с протестом против раздела. «Мне ничего больше не остается, – отвечал Штакельберг, – как жалеть о вашем величестве и уведомить свой двор о вашем поступке. Чего вы ожидаете от Франции против трех держав, способных сокрушить всю Европу?» «Ничего, – отвечал король, – но я исполнил свою обязанность». 23 ноября Штакельберг послал декларацию: «Есть предел умеренности, который предписывают правосудие и достоинство дворов. Ее величество императрица надеется, что король не захочет подвергать Польшу бедствиям, необходимому результату медленности, с какою его в-ство приступает к созванию сейма и переговорам, которые одни могут спасти его отечество». Но в то время как Штакельберг принимал меры, чтоб заставить короля переменить свое несчастное поведение, Бенуа твердил ему: «Оставьте его, тем лучше для нас: мы больше возьмем».
Станислав-Август счел своею обязанностью отправить во Францию протест против раздела, объявивши Штакельбергу, что не ждет от этого никаких благоприятных для Польши последствий. Слова его заключали в себе полную правду, хотя, вероятно, короля не оставляла еще надежда, что Западная Европа не останется равнодушною к смелому делу Восточной. Печальное царствование Людовика XV спешило к концу своему истратить все еще оставшиеся материальные и нравственные средства французского правительства. Это правительство объявило, что новая война из-за кого и из-за чего бы то ни было невозможна для него; у Франции оставалось одно средство заявлять свое значение, свою силу – искусная дипломатическая интрига; и действительно, Франция славилась своею школою дипломатов, бороться с которыми было очень трудно дипломатам других стран; знаменитая школа вела свое происхождение от времен кардинала Ришелье. Но этому сильному, блестящему войску, какое представлял корпус французских министров при иностранных дворах, нужен был искусный полководец, который бы из Версаля направлял его движения к общей цели по одной системе. Таким искусным полководцем был заведовавший иностранными делами Франции герцог Шуазель. Как только Россия появилась на сцене общеевропейского действия при Петре Великом, французские государственные люди поняли ее значение и, когда им не удалось втянуть это новое могущество в свои виды, когда Россия по единству тогдашних интересов вступила в союз с враждебною им Австриею, стали вести против России ожесточенную дипломатическую борьбу в Турции, Швеции и Польше. Мастерская перемена политического фронта, союз с Австриею вследствие сознания, что Пруссия Фридриха II гораздо опаснее для Франции, чем монархия Габсбургов, сблизили Францию с Россиею в общем действии, в Семилетней войне. Но перемена русской политики по смерти Елисаветы возобновила прежние неприязненные отношения между Франциею и Россиею, и герцог Шуазель, как истый француз, с знаменитым французским увлечением (furia francese) повел дипломатическую борьбу против петербургского Кабинета, ибо видел ясно, что после Семилетней войны Россия сильнее всех государств в Европе, и, главное, видел, что русская государыня хочет и может пользоваться этою силою для утверждения своего влияния в Европе. Этого не мог сносить Шуазель, хотевший, чтоб при нем Франция, как прежде, имела господствующее влияние на европейские дела; он оскорблялся величием России, как представитель древней, но расстроенной в своих делах фамилии оскорбляется успехами молодого, способного и богатого новичка. Для противодействия России он хотел затянуть еще сильнее узел дружбы с Австриею, устроил союз фамильный посредством брака наследника французского престола с эрцгерцогинею Мариею-Антуанеттою. В России, следя за движениями противника, хотели идти одинаким с ним ходом. Как Шуазель устроил Южный католический союз из Франции, Испании и Австрии, так и в России придумали Северный союз. Этот северный концерт не удался по несходству интересов трех держав, имевших быть главными его членами, – России, Пруссии и Англии; но самое принятие вызова, вступление в открытую дипломатическую борьбу в самых обширных размерах, подражание ходу противника, ведение контрмин раздражало Шуазеля. Попытка отвлечь Пруссию от России оказалась напрасною; в Польше нельзя было воспрепятствовать России возвести на престол Понятовского и проводить известные требования; но Шуазель дождался взрыва неудовольствия, дождался Барской конфедерации и начал помогать конфедератам людьми и деньгами, причем главною целию Шуазеля было продление борьбы, истомление России; цель эта достигалась как нельзя лучше поднятием Турции: и Шуазель успел поднять ее, а между тем неутомимо работал в Швеции в пользу усиления королевской власти. Одним словом, во всех важнейших политических вопросах Россия встречала главным врагом своим Шуазеля; Екатерина имела полное право ненавидеть этого «кучера Европы», как она называла Шуазеля.







