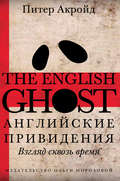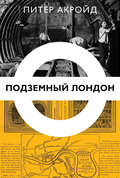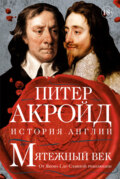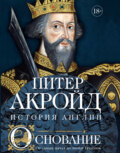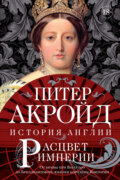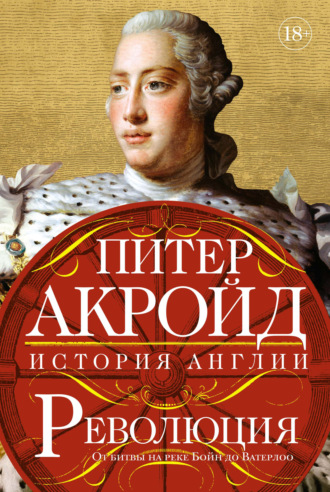
Питер Акройд
Революция. От битвы на реке Бойн до Ватерлоо
5
Золотая проза
Король Вильгельм III издавна лелеял надежду на объединение Англии и Шотландии, руководствуясь в основном соображениями безопасности и целями военной стратегии; ему вовсе не хотелось иметь под боком врагов-якобитов, учитывая, что шотландцы веками считались приверженцами Франции. Попытки заключения династического союза уже предпринимались в прошлом, однако они ни к чему не привели. Король Яков VI Шотландский, в 1603 году ставший Яковом I Английским, объединил две короны, но, увы, не два королевства. Тем не менее был создан прецедент. Во времена республики, просуществовавшей совсем недолго, Кромвель взял Шотландию под свое крыло, однако затем союз распался.
Вскоре после восшествия на престол королевы Анны в 1702 году была создана специальная комиссия с целью разрешения этого назревшего вопроса. Поначалу обе стороны без энтузиазма восприняли предложение об унии. Лидер партии тори в палате общин Эдуард Сеймур сравнил такой союз с женитьбой на бродяге и брезгливо заметил: «Шотландия – нищенка, а кто женится на нищенке, тому в приданое достаются вши». Однако интересы государства и вопросы безопасности значили гораздо больше, чем пустячные обиды. В 1703 году шотландский парламент принял два закона – Акт о безопасности (Act of Security) и Акт о мире и войне (Act anent Peace and War), которые поставили под угрозу политический авторитет Англии. Шотландцы отказывались отдавать корону протестантской Ганноверской династии. Они еще лелеяли надежду на передачу власти шотландцам-Стюартам. Второй закон гласил, что после смерти королевы за шотландцами остается право решать, жить ли в мире с Францией и ее союзниками или вести войну. Шотландцы также оставляли за собой право вывести шотландские войска из состава армии Мальборо.
Перспектива наличия враждебно настроенного соседа на северной границе всецело занимала умы английских политиков. Вигов не требовалось убеждать в необходимости союза; их безоговорочная поддержка военной кампании, а также искренняя преданность Ганноверской династии говорили сами за себя. Тори, в свою очередь, не хотели открыто выражать недоверие королеве или правительству. Как бы то ни было, Анна предусмотрительно включила лишь одного представителя от этой партии в состав специальной комиссии. В результате переговоры проходили в атмосфере любезности, щедро сдобренной взяточничеством и другими неприкрытыми махинациями.
Заседания комиссии проходили весной и летом 1706 года в Уайтхолле, в группе зданий, получивших название Кокпит. Стороны фактически не встречались лично для обсуждения союза, предпочитая обмениваться письменными проектами и предложениями, в которые беззастенчиво вкладывались щедрые суммы с обещаниями умаслить шотландских землевладельцев. Шотландцы же надеялись получить большой кусок от так называемой компенсации – денежной суммы, которую Англия выплачивала кредиторам в счет долга, накопленного предыдущим шотландским правительством. Договор об унии вполне можно было назвать подковерной сделкой, однако многие шотландцы, участвовавшие в работе комиссии, на тот момент уже поддерживали союз с Англией.
Экономику Шотландии серьезно подорвала изнурительная и, казалось, бесконечная война с Францией. В условиях запрета экспорта в порты иностранных государств страна более чем когда-либо нуждалась в возможности свободно торговать с Англией, например крупным рогатым скотом и льном. Не было никаких сомнений в том, что с экономической точки зрения союз будет выгодным. Адам Смит – корифей шотландской экономики – позднее писал: «Уния открыла рынок Англии, а значит, дала шотландцам возможность продавать там свой высокогорный скот… Однако из всех преимуществ, которые получила Шотландия, начав торговлю с Англией, подъем цен на скот был, пожалуй, самым значимым. Он способствовал не только повышению стоимости землевладений на высокогорье, но и благоустройству равнинных земель».
В действительности Договор об унии позволил создать крупнейшую зону свободной торговли в мире и постепенно преодолеть трудности, вызвавшие упадок шотландской промышленности и сельского хозяйства. Однако многие шотландцы были не в восторге от перспективы предстоящей унии. Они не желали объединяться с более богатым и могущественным государством, опасаясь превратиться в кельтский придаток английской короны, как Корнуолл. И почему они должны забыть о династии Стюартов?
Тем не менее уже в начале мая 1707 года парламенты Англии и Шотландии утвердили Договор об унии, приняв соответствующие Акты об унии (Acts of Union). Произошло объединение двух наций и образование единого государства, которое Джонатан Свифт назвал «нашим безумным королевством с двойным дном». На деле договор создал единую верховную власть над двумя нациями и единый парламент, в котором представители Шотландии получили около полусотни мест. Вместе с тем шотландцы сохраняли свою церковь, законы, а также местное управление. Итак, в 1707 году Англия, Шотландия и Уэльс образовали королевство Великобритания.
Новый флаг, соединивший в себе красный крест святого Георгия и белый крест святого Андрея, стал широко известен под названием «Юнион» (The Union). Правда, принципиально это ничего не изменило в продолжавшейся под его эгидой войне. После успеха в сражении при Бленхейме в отношениях между союзниками наметилось некоторое охлаждение, возникли разногласия и разочарование, при этом ни Италия, ни Нидерланды не смогли уклониться от удара Франции. Герцог Мальборо хотел вторгнуться во Францию и пресечь угрозу на корню, однако ему так и не удалось заручиться поддержкой союзников, которые были слишком малодушны и стремились лишь защитить собственные земли.
Мальборо продолжил наступление в Испанских Нидерландах и при содействии голландских и датских союзников весной 1706 года смог одержать крупную победу при Рамильи (Рамийи). Командующий французской армией маршал Вильруа описал эту битву как «самый позорный, унизительный и катастрофический разгром» своей армии. После поражения французов вытеснили из Испанских Нидерландов, они оставили ряд ключевых городов, в том числе Антверпен, Остенде, Брюгге, Гент и Лилль.
Бурбоны по всей Европе были в полнейшем смятении. Единственным исключением был, пожалуй, дом Бурбонов в Мадриде, сохранивший власть через внука Людовика XIV, Филиппа V, который правил Испанией без малого сорок лет и отказался от трона в пользу своего сына. Казалось, все теперь играло на руку Англии и ее союзникам. Знаменательным событием стал захват Лилля, поскольку это был своего рода ключ к воротам Парижа. В результате Людовик даже направил в Гаагу посла для начала тайных переговоров.
Любопытно, что атмосфера в самой Англии вовсе не способствовала заключению мирного договора. В письме голландскому генералу герцог Мальборо писал: «Я один из тех, кто полагает, что Франция еще не вернулась к своим изначальным, законным границам, поэтому для нас нет ничего более болезненного, чем чрезмерная спешка в заключении мирного договора». Англичане были готовы к миру только на исключительно привлекательных для себя условиях. Мирный договор, как минимум, должен был предусматривать официальное признание королевы Анны в качестве законного правителя страны вместо незаконно посаженного на трон Старого претендента, который весной 1708 года подлил масла в огонь нелепой высадкой в заливе Ферт-оф-Форт. Англия также требовала уничтожить порт в Дюнкерке[38] и выслать Филиппа V из Мадрида.
Людовик XIV, казалось, был согласен на все или почти все. Франция и Англия только что пережили самые холодные зимы в истории. На Темзе устроили ледяную ярмарку, а леди Вентворт в письме своему брату писала: «Мальчиков-посыльных развозили лошади, и порой наездники намертво примерзали к ним». Однако страшные морозы имели куда более серьезные последствия для Франции, которая и без того была охвачена голодом, дефицитом и всеобщим пораженческим настроением.
Ради мира Людовик мог пожертвовать многим, но не всем. Он ни при каких обстоятельствах не желал подписывать статью 37 мирного договора, согласно которой его внук должен был покинуть Мадрид – при необходимости с применением силы, а на трон должен был взойти Карл VI Габсбургский. Это было настоящим оскорблением для Людовика. Собственными руками сместить с трона представителя династии Бурбонов в пользу Габсбургов? Уму непостижимо. Вполне возможно и даже логично, что Мальборо и его переговорщики выдвинули эти требования, зная, что Людовик отвергнет их, а Англия получит законные основания продолжать войну. Война по-прежнему приносила внушительные трофеи, особенно для титулованных вождей, каким был Мальборо. Герцог даже просил королеву даровать ему титул главнокомандующего пожизненно, однако Анна благоразумно отказала, сославшись на то, что это противоречит конституции. И все же дела Мальборо шли неплохо. Бленхеймский дворец и особняк Мальборо-хаус – вот лишь пара примеров безделушек, которые он получил в ходе военной кампании.
Богатство и высокий пост Мальборо не могли не вызывать недовольство у тех, кто выступал против него и против участия Англии в Войне за испанское наследство. Ярость и разочарование – реакция народа на правительство вигов, в руках которых находились все доходы от сбора налогов. Коммерсанты-виги богатели, предоставляя займы правительству, а сквайры-тори вынужденно платили непомерные налоги на землю, чтобы правительство могло расплатиться с долгами. Вряд ли все было так однозначно, однако именно так ситуация выглядела в глазах современников. Едва ли можно вообразить себе обстановку более угнетающую или несправедливую. Тори выступали против военной кампании по стратегическим и финансовым соображениям. Какой смысл воевать на стороне голландцев, которые веками были главными конкурентами в торговле? Какой смысл вести невразумительные битвы на континенте, не получая от них никакой выгоды?
Кризис наступил в начале осени 1709 года во время битвы при Мальплаке, к юго-западу от Монса. Английская армия при поддержке союзников в лице Австрии и Голландии одержала формальную победу ценой огромных потерь, в два раза превосходивших жертвы неприятеля. Французы отступили, однако сделали это достойно, в то время как англичане оставили более 20 000 погибших на поле битвы, которая вскоре стала считаться «самой кровавой в Европе». Королева Анна не направила герцогу никакого поздравительного письма. Если французы по-прежнему могли сражаться столь воодушевленно и упорно, невзирая на грозящие отовсюду предвестия их скорого поражения, какой конец войны можно было предвидеть? Тори резко выступили против дальнейшего участия в кровавой расправе, которую, возможно, заведомо спланировало правительство вигов. Маршал Вильруа, командующий французскими силами, писал королю: «Если Господу будет угодно послать врагам Вашего Величества еще одну такую победу, они будут уничтожены». Оригинальная цитата принадлежит Пирру, от которого и пошло выражение «пиррова победа»[39].
Тем временем у вигов появился новый враг, совершенно другого плана. Доктор Генри Сашеверелл, член колледжа Магдалины в Оксфорде, будучи представителем ортодоксальных кругов и выразителем патетических идей «высокой церкви», уже настроил вигов против себя. При содействии ярого консерватора, лорд-мэра Лондона, и нескольких сочувствующих партии тори Сашевереллу было поручено выступить с проповедью перед членами муниципалитета лондонского Сити 5 ноября 1709 года в соборе Святого Павла в честь знаменательных событий, произошедших в этот день[40]. Сашеверелл получил известность как прекрасный оратор, которому практически не было равных. «Он взошел на кафедру, – писал Уильям Биссетт в памфлете «Современный фанатик» (The Modern Fanatic; 1710), – словно Сивилла подошла к входу в пещеру[41] или будто Пифия поднялась и села на треножник[42], с такой неукротимостью и неистовством, что не передать словами». Поджатые губы и горящий взор – налицо все признаки ревнителя строгой дисциплины. Сашеверелл не был ученым, однако к его словам прислушивались; он не отличался умом, однако ему верили. Он относился к тем священнослужителям, которые могли проникновенно повторять заученные клише своего времени, словно опаляя ими сердца слушателей.
Проповедь Сашеверелла, произнесенная 5 ноября 1709 года в соборе Святого Павла, называлась «Угрозы лжебратии для церкви и государства» (The Perils of False Brethren, in Church and State). Кто имелся в виду под «лжебратией», догадаться было нетрудно: Сашеверелл открыто обличил их, как и многих других марионеток. Его нападки направлены на религиозных нонконформистов, особенно на диссентеров, которых виги старательно защищали и которым двадцатью годами ранее даровали свободу вероисповедания, издав Акт о веротерпимости. По словам проповедника, они были избраны, чтобы править страной безбожников и грешников. В более ранней проповеди 1702 года он заявлял: «Пресвитерианство и республиканство идут рука об руку», имея в виду, что терпимость, проявленная к нонконформистам, и присвоение им официального статуса могли существовать как в религии, так и в политике. Споры на этот счет велись уже давно и начались с ремарки Якова I: «Нет епископа – нет и короля».
Однако теперь Сашеверелл говорил об этом с невиданной яростью и неистовством. Он разразился целой тирадой, желая обличить религиозную терпимость. По его словам, диссентеров следовало винить в убийстве короля. Он яро отстаивал принцип «слепого повиновения», согласно которому подчинение монарху – непреложный закон, а любое несогласие следовало приравнивать к греху и беззаконию. Разумеется, эти слова можно трактовать как критику «Славной революции», в результате которой произошло свержение Якова II, однако современники усмотрели в его словах нападки на идеологию вигов и ее сторонников.
В тот момент положение вигов было незавидным: с одной стороны, их теснили неприятели в континентальной войне, с другой – сограждане-оппоненты, то и дело нашептывавшие на ухо королеве, что в стране зреет недовольство. В этих обстоятельствах они посчитали, что лучшая защита – это нападение. Вопреки желанию самой королевы было решено вызвать проповедника в палату общин для объяснений. В середине декабря нижняя палата признала его высказывания «злонамеренными, клеветническими и подрывными»; его арестовали и обвинили в государственной измене за «особо тяжкие преступления и злодеяния». В случае признания вины ему грозило пожизненное заключение.
Все это выглядело так, словно правительство палило из пушки по воробьям, меж тем общественность утверждалась в своих подозрениях относительно намерений всесильного правительства вигов блюсти исключительно собственные интересы. В сущности, Генри Сашеверелл лишь открыто высказал свою преданность государственной церкви и заявил, что нарушаются ее привилегии. Что плохого в том, чтобы исповедовать англиканство? Когда это стало тяжким преступлением? Те, кто нападал на него, рисковали и сами попасть под подозрение в организации подрывной деятельности.
Любопытно, что пресловутая «толпа», или «люд», или любое другое слово, обозначающее обычных, ничем не примечательных жителей Лондона, отстаивала традиции; эти люди были инстинктивно преданы официальным представителям короны и церкви, поэтому любой клич «церковь в опасности» мог стать для них сигналом, чтобы выйти на улицы в ее защиту. Многие из них за всю свою жизнь могли ни разу не побывать на церковной службе, однако стоило появиться силе, угрожавшей церкви, как они уже были готовы оказать сопротивление.
В день суда над Сашевереллом жители Лондона вышли на улицы, намереваясь разгромить молельни диссентеров. Не пощадили они и дома некоторых священников-нонконформистов, уничтожив книги и мебель. Кафедры, скамьи и даже деревянные панели из нескольких приходов свезли на площадь Линкольнс-Инн-Филдс и под крики «Высокая церковь и Сашеверелл!» сожгли. Окружив экипаж самой королевы, толпа протестующих кричала: «Боже, храни ее величество и церковь! Мы надеемся, что ваше величество на стороне доктора Сашеверелла!» Даниель Дефо писал: «Женщины позабыли о чае и горячем шоколаде, не говоря уже о послеобеденных приемах, и, объединившись в кружки, устраивают тайные советы и решают государственные вопросы… на улицах властвует толпа, люд, не прекращаются мятежи и буйства… о политике говорят все от мала до велика».
В конце февраля 1710 года в палате лордов в Вестминстер-холле начался суд, вызвавший небывалый ажиотаж. Зал был переполнен – так много пришло тех, кто заплатил немалые деньги, чтобы побывать на процессе. Для королевы соорудили специальную ложу, из которой она могла наблюдать за процессом, оставаясь незамеченной. Сам Сашеверелл прибыл в зал для судебных заседаний утром в экипаже со стеклянными окнами, в сопровождении вооруженных людей со шпагами наголо. Защита обратилась к суду, заявив, что доктор лишь отстаивал государственную церковь в своей проповеди, «которую сочли преступной из-за неоднозначной трактовки некоторых слов».
Спустя четыре дня Генри Сашеверелл сам выступил с речью в свою защиту. Автором его речи стал более просвещенный и красноречивый Фрэнсис Аттерби, епископ Рочестерский. По словам Сашеверелла, он лишь обычный священник, дерзнувший из любви к своей стране и религии высказаться против святотатцев и безбожников. Он выиграл процесс еще прежде, чем начал говорить, а лидеры вигов уже всерьез пожалели о несвоевременных нападках на народного любимца. Сашеверелла признали виновным незначительным большинством, однако приговор был мягким: вместо пожизненного заключения в Тауэре, которым его пугали, суд потребовал сожжения всех его проповедей и отстранил от проповеднической деятельности на три года.
В глазах граждан страны этот приговор был равносилен оправданию Сашеверелла и звучал как суровый укор вигам, предавшим его суду. Толпы обезумевших людей наводнили Лондон; костры жгли прямо на улицах, а в окнах, следуя старой традиции празднования крупных военных побед, зажигали свечи и фонарики. Когда Сашеверелл читал молитвы в церкви Святого Спасителя в Саутуарке, произошла страшная давка. В городках по всей стране в знак победы звонили в колокола, и многим казалось, что настроения в народе предвещали новую эру тори в церкви и государстве.
Судя по результатам выборов, состоявшихся осенью 1710 года, народ возлагал все свои надежды и чаяния именно на консерваторов. Тори одержали победу, набрав почти в два раза больше голосов, чем виги. Во главе нового правительства стал уже упоминавшийся ранее государственный деятель Роберт Харли, известный политический «вьюнок», чья искренняя преданность королеве сочеталась с желанием сформировать умеренный кабинет министров. Однако Харли не принял во внимание радикальных членов партии тори, которые после победы на выборах были широко представлены в палате общин. Они сформировали группу под названием «Октябрьский клуб» в память о своей славной победе. От них было много шума, но мало толка, а Дефо описывал членов клуба как «птиц высокого полета, страдающих куриной слепотой». Некоторые оппоненты открыто осуждали их за преданность династии Стюартов, однако едва ли правомерно; пожалуй, куда более справедливо сказать, что, выпив, представители «Октябрьского клуба» были якобитами, а протрезвев, становились сторонниками Ганноверской династии. Такое описание подходило для большинства тори, которые, с одной стороны, мечтали о возвращении старого порядка, а с другой – прекрасно понимали, что их благополучие, финансовое положение и безопасность целиком зависят от Ганноверского дома.
Впрочем, «Октябрьский клуб» представлял собой влиятельное объединение тех, кто устал от войны, еще больше устал от вигов и с подозрением относился к финансовой кабале, контролю над военными расходами и национальными налогами. С не меньшим недоверием они относились и к самому Харли, который, казалось, намеревался взять в новое правительство и представителей вигов. Некоторые полагали, что трофеи от предвыборной гонки должны доставаться победителям, а не проигравшим.
Политические дебаты и прения словно застыли на пике благодаря таким личностям, как Джозеф Аддисон, Ричард Стил, а также Даниель Дефо, Джонатан Свифт, Уильям Конгрив и Александр Поуп. Можно с уверенностью сказать, что время правления Анны стало золотым веком политической журналистики. В период выборов осенью 1710 года между памфлетистами и издателями периодики разыгралась нешуточная война. У Харли было чутье на то, что мы сегодня бы назвали «связи с общественностью». Он добился освобождения Дефо из тюрьмы, куда тот угодил из-за вздорного памфлета, и нанял его на службу в качестве собственного преданного журналиста и разъездного шпиона. К тому моменту Дефо уже издавал журнал Review, полное название которого звучало так – A Review of the Affairs of France. Там он печатал злободневные сатирические статьи о морали и политике; издание выходило три раза в неделю в формате четверть листа и содержало обзоры событий внутренней и внешней политики, новости искусства, коммерции, науки и торговли. Журнал издавался на протяжении девяти лет, и практически все статьи принадлежали перу самого Дефо, который задал английской журналистике критический и довольно категоричный тон, сохранившийся и по сей день.
Тем временем Харли нанял еще и Свифта. Харли платил Дефо, однако Свифта, чей статус дворянина и ученого был несколько выше, чем у Дефо – литературного поденщика и бывшего кровельщика, – он взял лестью. Харли пригласил Свифта с собой в Виндзор, и писатель стал одним из первых участников обеда субботнего клуба Харли в Йорк-билдингс. Газета Examiner Свифта имела совершенно иную направленность, нежели журнал Review Дефо; в ней чувствовалось больше стиля и учености, при этом меньше энергии и сварливости. Дефо в основном читали городские торговцы и владельцы лавок, то есть те, кого один современник пренебрежительно назвал «сапожниками и швейцарами»; в целом газета ориентировалась на городских лоялистов. Свифт же в своих статьях обращался главным образом к мелкопоместному дворянству в сельской местности и землевладельцам благородного происхождения. Харли хотел охватить как можно более широкую аудиторию, поэтому одной его рукой был Свифт, а другой – Дефо.
Свифт, однако, находился в неоднозначном положении. Граф Оррери писал, что писатель «был окрылен высоким доверием, оказанным ему властью. Однако это лишь видимость доверия, а истинное положение дел скрывалось от его глаз. Его наняли, но это не значит, что ему доверяли». Сам Свифт считал себя глубоководным ныряльщиком в океане политики, однако Оррери утверждал, что «его терпели лишь для того, чтобы тот барахтался недалеко от берега… возможно, морская пучина была для него слишком мутной».
Накопившаяся усталость, обиды и отвращение ко лжи и пустым обещаниям, которые давали Свифту известные английские политики, вероятно, способствовали усилению его мизантропии в более поздних и известных произведениях. Особенно это заметно в «Путешествиях Гулливера», где он окончательно осознает всю глубину человеческой лжи и лицемерия; он чувствует отвращение, а не жалость, отвращение, смешанное с ужасом перед жизнью.
Весной 1709 года три раза в неделю начал выходить информационный журнал форматом в пол-листа с четырьмя колонками стоимостью одно пенни; в нем публиковались очерки о нравах и обычаях современности, а также заметки и зарисовки из различных кофеен лондонского Сити. Издание придерживалось умеренных вигских взглядов, однако сохраняло нейтральный и сдержанный тон. Это был Tatler – лондонское периодическое издание, которое виги считали символом утонченности и исключительности. Журнал брался научить «государственных мужей, о чем им думать», обещая при этом размещать материалы, «которые послужат развлечением для прекрасной половины человечества». В издании печатались сплетни «о любовных интригах, удовольствиях и развлечениях», подслушанные в различных кофейнях и шоколадных домах, куда репортеры заходили подкрепиться.
Издатель и редактор газеты Ричард Стил взял псевдоним Исаак Биккерстаф и выбрал амплуа здравомыслящего и терпимого человека, не желавшего ни чрезмерно хвалить другие партии, ни обвинять их в чем бы то ни было. Это был представитель вигов, который знал, как сдерживать свой пыл, особенно когда обстановка накалялась. Он поддерживал Мальборо, несмотря на заявленную нейтральность взглядов, и проповедовал основополагающие ценности политики вигов – здравый смысл и хороший вкус.
Через два года Tatler трансформировался в Spectator под редакцией Стила и Аддисона. Журнал сохранил вигский уклон, даже когда правительство тори во главе с Робертом Харли захватило государственный аппарат. Издание отличалось нейтральностью и светскостью, в нем рассказывалось о самых разнообразных вещах: от природы проституции до размера стиха в «Потерянном рае»[43]; в журнале можно было найти рецензию на театральную премьеру и описание тенденций быстро менявшейся моды, например рассказ о поголовном увлечении разноцветными капюшонами в начале 1712 года, – в ход шли все новости, которые неминуемо оставлял позади поток времени и сама жизнь.
Издатели Spectator с самого начала отказались выступать на стороне какой-либо из противоборствующих политических партий. Аддисон заявлял: «В моей газете нет ни слова о новостях, нет размышлений о политике или о расстановке сил в партиях». Его цель состояла в обучении манерам, а не мерам, поэтому Аддисон говорил: «Мое честолюбие жаждет, чтобы обо мне сказали: он вывел просвещенность из чуланов и библиотек, школ и университетов и поселил ее в клубах и ассамблеях, в кофейнях и за чайными столиками».
Эти слова отражают усиливавшуюся в XVIII веке тенденцию. Spectator облагораживал якобитов, энтузиастов, приверженцев тори, сторонников «высокой церкви» и ярых политиканов, – и все они постепенно уходили в небытие. Главным мерилом правды становилась дружественная дискуссия, а из всех темпераментов, в свое время изложенных в учении Гиппократа[44], значение имело лишь здравомыслие. Отныне отпала всякая необходимость размещать принципы морали на первой странице издания, поскольку они являлись отражением умеренного и терпимого общества и добродетельного государства, которые воспринимались как естественное и безусловное следствие революции 1688 года.
Разумеется, отсутствие энтузиазма, искренности и вдумчивости в тех или иных вопросах могло, в свою очередь, привести к цинизму и фатализму. Пьесы Конгрива, написанные незадолго до восшествия на трон королевы Анны, населяют лживые от природы персонажи. Весь мир представлен в виде огромного театра, в котором нет ни истины, ни добродетели. Это плоскость острот и дурачества; единственное, что может оживить героев, – зов плоти или жажда наживы. Мужчины в этом мире лгут, пресмыкаются и предают; женщины – сладострастны, глупы и переменчивы. Пьесы Ричарда Бринсли Шеридана, увидевшие свет чуть позже, повествуют о лицемерии и мошенничестве ради денег; метафоры банковского дела и финансовой сферы, столь актуальные для того периода, определяли ход повествования. Мода на сентиментальность, в которой многие видели банальный и наивный прием – забыть о суровых реалиях эпохи, – не вызывала у Шеридана ничего, кроме презрения. «Если вы хоть сколько-нибудь ко мне расположены, – говорит сэр Питер Тизл в пьесе «Школа злословия» (The School for Scandal; 1777), – никогда не произносите в моем присутствии чего-либо похожего на изречение»[45].
Ему вторят еще два голоса из пьесы Уильяма Конгрива «Двойная игра» (The Double Dealer; 1693), усиливая какофонию, возникшую после «Славной революции»:
Брехли. И все же, небом клянусь, я совершенно серьезно питаю к вашей светлости неодолимую страсть.
Леди Вздорнс. Совершенно серьезно? Ха-ха-ха!
Брехли. Совершенно серьезно, ха-ха-ха! Ей-богу, серьезно, хоть и не могу удержаться от смеха.
Леди Вздорнс. Ха-ха-ха!.. Над кем, как вы думаете, я смеюсь? Ха-ха-ха![46]