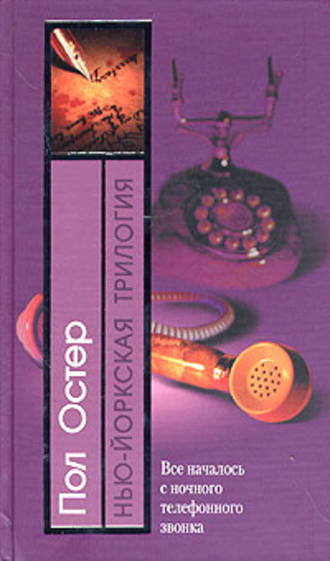
Пол Бенджамин Остер
Нью-йоркская трилогия
Прикончив первую порцию виски, они заказывают по второй и по третьей, обсудив разные страховые случаи, затрагивают тему продолжительности жизни в зависимости от профессии, и тут реплика Черни резко разворачивает беседу в иное русло:
Ну, моя-то профессия у вас, я думаю, не слишком высоко котируется.
Да? – простодушно вырывается у Синькина, не ожидающего подвоха. И чем же вы занимаетесь?
Я частный детектив, в открытую говорит Черни, спокойно и невозмутимо, и Синькин, точно ошпаренный этой наглостью, готов плеснуть ему в физиономию свое виски.
Ух ты! – быстро взяв себя в руки, восклицает он с притворным изумлением простака. Частный детектив, настоящий, ну надо же. То-то жена удивится. Я сижу в ресторане с переодетым сыщиком! Да она мне просто не поверит…
Я хочу сказать, перебивает его словоизлияния Черни, что мне отпущено, вероятно, не так уж много. По вашей статистике.
А хоть бы и так, с горячностью возражает Синькин. Зато сколько интересного! Не все же небо коптить. Да половина американцев отдали бы десять лет тихой жизни на пенсии, чтобы только поменяться с вами местами. Распутывать дела, решать интеллектуальные задачки, соблазнять красивых женщин, делать из злодеев дырявое решето… есть чему позавидовать!
Это всё киношники придумали. Настоящая работа детектива – довольно скучное занятие.
В каждой профессии есть своя рутина. По крайней мере, в вашем деле долгое и кропотливое расследование непременно заканчивается какой-нибудь неожиданностью.
Иногда – да, но чаще – нет. Возьмите мое текущее дело. Я занимаюсь им уже больше года, и ничего скучнее нельзя себе представить. Порой мне кажется, что от скуки я схожу с ума.
Как это?
Судите сами. Я должен наблюдать за человеком, самым что ни на есть заурядным человеком, и каждую неделю посылать об этом отчет. Всё. Наблюдать и писать отчеты. Больше ни-че-го.
И что же тут ужасного?
А то, что ни черта не происходит. Он целыми днями сидит в своей комнате и пишет. Есть от чего свихнуться.
Может, он вас так заманивает в ловушку. Усыпит вашу бдительность, а потом такое выкинет!
Сначала я тоже так думал. А теперь уверен: ничего не будет, никогда. Нутром чую.
Обидно, сочувствует Синькин. Может, вам отказаться от этого дела?
Уже подумываю. Или вообще завязать со всем этим, заняться чем-нибудь другим. Сменить профессию. Пойти в страховые агенты или поступить в цирк.
Вот уж не думал, что такое бывает, качает головой Синькин. А почему вы сейчас не наблюдаете за своим подопечным? Разве вы не должны за ним следить?
Зачем? – отвечает Черни вопросом на вопрос. В том-то все и дело. Я так долго за ним наблюдал, что успел изучить его лучше, чем самого себя. Мне достаточно о нем подумать, и я уже все про него знаю: где он, чем занимается. Я могу наблюдать за ним с закрытыми глазами.
И где же он сейчас?
Дома, где же еще. Сидит за столом и пишет.
О чем он пишет?
Точно не знаю, но догадываюсь. Думаю, о себе. Историю своей жизни. Это единственно возможный ответ. Другие варианты просто не проходят.
Тогда из-за чего весь сыр-бор?
Не знаю. Впервые в голосе Черни слышатся эмоциональные нотки.
Тогда все сводится к одному, правильно? Забыв о своей роли, Синькин смотрит в упор на собеседника. Он знает, что вы за ним наблюдаете?
Черни отворачивается, не в силах выдержать этого испытующего взгляда, голос его дрогнул:
Конечно, знает. А как же? Должен знать, иначе все лишается смысла.
Почему?
Потому что я ему нужен, отвечает Черни, по-прежнему глядя в сторону. Как постоянный свидетель. Как доказательство того, что он существует.
По щеке Черни скатывается слеза. Синькину надо бы что-то сказать, попытаться извлечь выгоду из этой ситуации, но Черни вдруг встает и со словами, что ему надо позвонить, поспешно выходит из зала. Синькин ждет его десять или пятнадцать минут, уже зная, что напрасно теряет время. Черни не вернется. Разговор окончен, и сколько тут ни сиди, ничего уже не высидишь.
Расплатившись за выпивку, Синькин едет назад в Бруклин. Проходя по Оранж-стрит, он поднимает глаза на темные окна Черни. Ничего, говорит он себе, скоро вернется. Это еще не финал. Самое веселое впереди. Шампанское будет литься рекой.
Дома Синькин ходит из стороны в сторону, обдумывая свои действия. Наконец его подопечный допустил ошибку – или это только так кажется? Хотя факты сопротивляются, он не может отделаться от ощущения, что все было подстроено: Черни его как будто подманил или заманил и теперь подталкивает к некой им задуманной развязке.
И все же совершен прорыв, впервые с начала этого «дела» он сдвинулся с мертвой точки. В других обстоятельствах Синькин отпраздновал бы эту маленькую победу, но нынче ему как-то не до того. Ему грустно, он чувствует себя опустошенным, разочарованным. Факты вещь упрямая, и трудно отрицать, что по большому счету он проигрывает: как ни крути, а в этом «деле» он тоже жертва. Он подходит к окну; в квартире напротив загорелся свет.
Он ложится на кровать и думает: гуд-бай, мистер Велик или как вас там! Нет никакого Велика и не было. И тут же: Черни, бедняга, тоска без биографии. Тяжелеют веки, наваливается сон, а в голове: у каждой вещи свой цвет, у всего, что мы видим и что мы трогаем, странно, да? Чтобы не уснуть, он начинает мысленно загибать пальцы. Начнем с синего. Синица, синяя птица. Васильки и барвинки. Синяя дымка над Нью-Йорком, синий отлив Тихого океана. Голубика. Посинеть от холода или от злости. Голубая орденская лента и голубая кровь. «Голубые» мальчики. Синева неба и синева под глазами. Синюшный младенец. Голубые горы. Синяя униформа полицейского. Синька. Синькин. Больше ничего не приходит на ум, и он берется за белый цвет. Белые чайки и лебеди, журавли и попугаи. Стены этой комнаты и постельное белье. Белая фата. Белые лилии, белая акация, белые хризантемы. Белый флаг капитуляции и белые траурные одежды индусов. Материнское молоко и отцовское семя. Зубы и белки глаз. Белуга и заяц-беляк. Белила. Белый дом. «Белая смерть». Белый танец и белое безмолвие. Без перехода он переключается на черный цвет. Чернокнижники. Черный рынок. Черная рука. Чернота ночи. «Черные пантеры». Черника и черная смородина. Черная ворона и черный воронок. Черная оспа. «Черный вторник». Черные дни. Чернуха. Чернец. Чернильница. Черные разводы туши. Черный мир слепого. В глазах чернеет, и, запутавшись в этом лабиринте, он засыпает. Ему снятся дела минувших дней. Среди ночи он просыпается, как от толчка, и снова бороздит комнату с мыслями о необходимости что-то срочно предпринять.
Поутру Синькин затевает новый маскарад. Испытанный трюк. Он в роли разносчика. Следующие два часа уходят на изменение внешности: лысина, усы, морщины у рта и мешки под глазами.
Сидя перед маленьким зеркальцем, он гримируется, как опытный комедиант перед выходом на сцену. Двенадцатый час. Он берет чемоданчик со всевозможными щетками и выходит на улицу. Открыть замок парадной двери дома напротив – для него пара пустяков. Приятное возбуждение, как в старые добрые дни. Он поднимается по лестнице. Никаких силовых акций. Цель визита – осмотреться, оценить обстановку на будущее. Но эмоции захлестывают. Это ведь не просто знакомство с жилищем, это ощущение того, что ты «там», делишь с ним одно пространство, дышишь одним воздухом. После сегодняшнего дня ход событий станет необратимым. Сейчас откроется дверь, и Черни поселится в нем навеки.
Он стучит, дверь открывается, и вдруг исчезает всякая дистанция – мысль об объекте и сам объект сливаются воедино. На пороге стоит Черни, вооруженный авторучкой, он производит вид человека, застигнутого посреди работы, но его глаза говорят о том, что он ждал Синькина и готов услышать жесткую правду, более того, ему это до лампочки.
Синькин скороговоркой, показывая на чемоданчик, сообщает о щетках на продажу, извиняется, просит разрешения войти, всё на одном дыхании, с профессиональными ухватками коммивояжера, сотни раз апробированными. Черни спокойно его впускает. Он вроде бы не прочь купить зубную щетку, но Синькин уже впаривает ему щетку для волос и платяные щетки, язык мелет что придется, отвлекает хозяина от главного, а тем временем взгляд обшаривает комнату, фиксируя каждую мелочь.
Комната, в общем, такая, какой он ее себе представлял, разве что еще более аскетичная. Совершенно голые стены – это неожиданность, он ожидал увидеть какие-то картинки, пейзаж или фотографию близкого человека, что-нибудь, способное оживить унылое однообразие. Синькина давно мучило любопытство, что он увидит и какой ключ к разгадке это ему даст, и только сейчас, в виду голых стен, до него доходит, что иначе и быть не могло. А в остальном – никаких расхождений. Именно такой он представлял себе эту монашескую келью: в одном углу аккуратно заправленная кровать, в другом кухонька, все чистенько, ни крошки. Посреди комнаты, ближе к окну, деревянный стол и такой же стул с жесткой спинкой. Карандаши, ручки, пишущая машинка. Бюро, ночной столик, лампа. Книжный шкаф с десятком книг: «Уолден», «Листья травы», «Дважды рассказанные истории» и еще несколько. Ни телефона, ни радио, ни журналов. На столе ровные стопки бумаги – чистые, исписанные от руки, отпечатанные на машинке. Сотни, может, тысячи страниц. Это не жизнь, думает про себя Синькин. Это черт знает что. Голый остров. Последнее пристанище перед концом света.
Черни выбирает красную зубную щетку. Затем они переходят к платяным щеткам, и Синькин на себе демонстрирует их действие. Вам, человеку аккуратному, говорит он, без такой не обойтись. До сих пор как-то обходился, отвечает Черни. Тогда, может быть, щетку для волос? Они смотрят образцы, обсуждают формы и размеры, разные виды щетины и тому подобное. Дело-то, по сути, уже сделано, но Синькин продолжает по инерции, чтобы все было без дураков, даже если его усилия пройдут вхолостую. Черни оплачивает покупки, и, пока Синькин складывает свой чемоданчик, он не может удержаться от вопроса.
Вы писатель? Он показывает на письменный стол.
Да, отвечает Черни.
Большая книга, уважительно говорит Синькин.
Да, снова соглашается Черни. Я несколько лет над ней работаю.
И когда думаете закончить?
Скоро, следует задумчивый ответ. Это дело такое. Вроде пошел на коду – и тут вдруг понимаешь, что упустил важную вещь, приходится возвращаться назад. Я сплю и вижу, когда уже поставлю точку. Хорошо бы поскорее.
Надеюсь когда-нибудь прочесть, говорит Синькин.
Может быть, отзывается Черни. Но сначала я должен ее дописать. Иногда мне кажется, что я до этого дня не доживу.
Что мы знаем? Синькин философски кивает головой. Сегодня ты жив-здоров, а завтра дашь дуба. Все мы смертны.
Это уж точно, соглашается Черни. Все мы смертны.
Они стоят в дверях, и Синькина так и подмывает отпустить еще какое-нибудь бессмысленное замечание. Отчего бы не повалять дурака. Одновременно есть желание поиграть в кошки-мышки, показать, что ни одна мелочь не ускользнула от его внимания, ибо в глубине души ему хочется дать понять своему визави: я, Синькин, ничуть не глупее тебя и готов это доказать по каждому пункту. Но, удержавшись от соблазна, он вежливо благодарит хозяина за покупки и откланивается. Вскоре почившего в бозе торговца щетками выбрасывают в тот же мешок, где покоятся останки Джимми Розена. Больше маскарадные костюмы не понадобятся. Следующий шаг неизбежен, и вопрос только в том, чтобы выбрать подходящий момент.
Но через три дня, когда подвернется благоприятный случай, Синькин смалодушничает.
В девять вечера Черни выходит из дома и исчезает за углом. Синькин воспринимает это как сигнал, как прямое приглашение к действию, хотя, конечно, это может быть и ловушкой, и его, еще минуту назад абсолютно уверенного в себе, можно сказать, раздувавшегося от собственного всесилия, в последний момент охватывает очередной приступ сомнений. С чего бы это он должен вдруг довериться Черни? Какие у него есть основания полагать, что они теперь по одну сторону баррикад? Что такого произошло, что он готов послушно следовать за дудочкой вчерашнего противника? И тут же, с бухты-барахты, совсем другая мысль: уж не сбежал ли объект? Просто взял и слинял? От этой возможности, которую Синькин покрутил в голове и так и эдак, его начинает бить озноб, он испытывает вместе ужас и восторг, как раб, перед которым замаячила свобода. Он видит себя далеко отсюда, в лесу, размахивающего топором. Вольный как птица, сам себе хозяин. Он отстроит жизнь заново, эмигрант, пилигрим, первооткрыватель Нового Света. Этим все заканчивается. Едва успев сделать несколько шагов в девственном лесу, он понимает, что где-то рядом находится Черни, прячется за деревьями, крадется следом под прикрытием густых зарослей, ждет, когда он приляжет и закроет глаза, чтобы подкрасться и перерезать ему горло. Какой-то непреходящий кошмар. Если он не разберется с Черни прямо сейчас, этому не будет конца. Древние называли это роком, герой принимает его как неизбежность. Выбора нет, делать можно только то, что уже выбрано за тебя. Но Синькин отказывается это признавать. Он отвергает рок, сопротивляется, мучительно ищет выход. Не потому ли, что понял: да, надо мной навис рок, и сражаться с ним значит признать его, и говорить ему «нет» значит сказать ему «да». В конце концов Синькин приходит в чувство и осознает необходимость действовать. Но это вовсе не значит, что он не боится. Отныне вся его жизнь проходит под знаком страха.
Драгоценное время упущено, и теперь надо бежать в отчаянной надежде, что еще не все потеряно. Вряд ли Черни скрылся, скорее притаился за углом и ждет подходящей минуты. Синькин перебегает улицу и, поднявшись на крыльцо дома напротив, ковыряется в замке парадной двери, при этом нервно озираясь. Проникнув внутрь, он поднимается на третий этаж. С квартирным замком приходится повозиться, хотя по идее нет ничего проще, даже для новичка раз плюнуть. Таким неуклюжим может быть лишь человек, не владеющий собой, теряющий контроль над ситуацией, и хотя Синькин это сознает, от него мало что зависит, остается надеяться, что мандраж сам собой пройдет и руки перестанут дрожать. Как бы не так. Едва он переступает порог, как в глазах у него темнеет, такое ощущение, будто ночь придавила его к земле, проникла во все поры, а голова увеличилась, словно накачанный воздухом шар, и вот-вот оторвется от тела и улетит. Он делает еще шаг, другой и, потеряв сознание, грохается оземь, как труп.
При падении его часы остановились, и, когда Синькин приходит в себя, ему остается только гадать, сколько же он был в отключке. Он медленно возвращается к жизни с ощущением, что был здесь раньше, быть может очень давно, и, когда он смотрит на развевающиеся занавески и странные хитросплетения теней на потолке, ему мерещится, будто он лежит в своей кроватке, в далеком детстве, не в силах уснуть из-за страшной летней духоты, и стоит ему напрячь слух, как он услышит родительские голоса в соседней комнате. Но уже через мгновение, почувствовав тупую боль в затылке и сильную тошноту, он вдруг осознает, где находится, и его снова охватывает паника. Как пьяный, пошатываясь, он встает, говоря себе, что надо уносить отсюда ноги, и чем скорее, тем лучше. Он уже хватается за дверную ручку, но, вспомнив, зачем пришел, достает из кармана фонарик и включает кнопку; световой луч, заметавшись по комнате, наконец утыкается в аккуратно сложенную стопку бумаги на краю стола. Не раздумывая, он подхватывает свободной рукой всю стопку – «неважно, сойдет для начала» – и направляется к выходу.
Вернувшись домой, Синькин наливает себе стакан бренди и садится на кровать. Надо успокоиться. Он вроде бы пьет понемногу, но вскоре приходится повторить. Паника почти прошла, осталось чувство стыда. Я все запорол, выносит он себе приговор, и тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Впервые за свою профессиональную карьеру Синькин поступил неадекватно, и осознание того, что он неудачник и в глубине души трус, действует на него как ледяной душ.
Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, он берет украденные бумаги. Но это только усугубляет дело: перед ним его собственные отчеты, черным по белому, ничего больше. Еженедельные сводки в хронологическом порядке, ничего не значащие, ни о чем не говорящие, столь же далекие от сути «дела», как чистый лист. У Синькина из груди вырывается стон, внутри все опускается, а мгновением позже его разбирает смех, сначала тихий, затем все громче, все мощнее, пока он не начинает задыхаться, давиться от хохота, словно желая таким образом извести себя. Сгребая в кучу исписанные страницы, он швыряет их к потолку и смотрит на этот бумажный водопад бессмыслицы.
Трудно сказать, сумел ли Синькин оправиться от потрясения. В любом случае несколько дней после того памятного вечера он ходит сам не свой. Он не бреется, не переодевается, не выходит из комнаты. Очередной отчет он посылает куда подальше. Некогда исписанные страницы он в сердцах топчет ногами. Хватит. Чтобы я еще раз взялся за перо!
Весь день он валяется на кровати или ходит взад-вперед. Потом вдруг остановится перед фотографиями и картинками на стене – и разглядывает их в сотый раз. Вот Золотов, коронер из Филадельфии, с посмертной маской убитого мальчика. Вот заснеженный склон, а в правом верхнем углу, в рамочке, лицо французского горнолыжника. Вот перед Бруклинским мостом двое Реблингов, отец и сын. Вот отец Синькина в парадной форме получает медаль из рук мэра Нью-Йорка Джимми Уокера. А вот он же в повседневной одежде обнимает за плечи жену, мать Синькина, оба молодые, беззаботные, широко улыбаются в камеру. Здесь же Синькин с Желтовски перед входом в офис – фотография, сделанная в тот день, когда они стали партнерами по бизнесу. Ниже динамичный снимок – Джеки Робинсон буквально въезжает на вторую базу. Рядом портрет Уолта Уитмена. А слева от поэта – вырезка из киношного журнала: Роберт Митчум выставил перед собой пушку с таким затравленным видом, словно на него ополчился весь мир. Кого здесь нет, так это несостоявшейся миссис Синькиной, но всякий раз, когда он любуется своим маленьким вернисажем, его взгляд утыкается в пустое место, словно там висит ее портрет.
Несколько дней он даже не выглядывает в окно. Он полностью погружен в себя, и для Черни здесь нет места. Сейчас разыгрывается драма Синькина, а Черни, катализатор этой драмы, сыграл свою роль, произнес свои реплики и покинул сцену. Более не в силах мириться с самим фактом существования Черни, Синькин теперь попросту его отрицает. После того как сыщик проник в квартиру своего объекта, побывал, так сказать, в святая святых его одиночества, он ужаснулся этому мраку и противопоставить ему может лишь собственное одиночество. Заглянув в душу Черни, он заглянул в себя и понял, что больше нигде не в состоянии находиться. Но как раз здесь-то и засел Черни, хотя Синькин об этом не догадывается.
Однажды, вроде бы случайно, он подходит к окну, впервые за много дней, и, постояв в раздумье, как бы в память о прошлом, раздвигает занавески и выглядывает на улицу. Первый, кого он видит, это Черни, который сидит не в своей комнате, а на ступеньках дома, и взгляд его обращен на окна Синькина. Значит ли это, что объект сломался, спрашивает себя сыщик. Что все закончилось…
Синькин приносит бинокль и наводит на Черни. Несколько минут сыщик деталь за деталью изучает его лицо – глаза, губы, нос и так далее – и, разобрав лицо на части, снова соединяет их в единое целое. Глубина этой печали, эта безнадега в глазах не может не тронуть, и, застигнутый врасплох, вопреки собственному желанию, Синькин чувствует, как в его душе растут сострадание и жалость к этому горемыке, торчащему на улице.
Хочется же ему совсем другого, ему хочется (достало бы только смелости) зарядить пистолет, хорошо прицелиться и всадить пулю в голову этому Черни, который даже не успеет понять, что с ним произошло, душа его попадет на небеса раньше, чем его тело отбросит на ступеньки. Проиграв эту сценку в голове, Синькин тут же гонит ее от себя. Нет, вовсе не этого ему хочется. Но тогда чего? Борясь с приливом теплых чувств и бормоча вслух «оставьте меня в покое, дайте мне пожить тихо и мирно, больше я ничего не хочу», он вдруг ловит себя на том, что думает он, стоя у окна, совсем о другом: не может ли он чем-то помочь Черни, протянуть ему руку помощи. Это полностью перевернуло бы ситуацию. А почему нет? Почему не сделать то, чего от тебя не ждут? Постучать в дверь, стереть все, что между ними было, – чем это абсурднее всего прочего? Если уж говорить начистоту, у Синькина на борьбу просто не осталось пороху. Равно как и желания. То же, судя по всему, можно сказать и о Черни. Посмотри на него. Ты когда-нибудь видел более жалкого человека? И тут до Синькина доходит, что эти слова с тем же успехом относятся к нему самому.
Черни давно ушел в дом, а Синькин все смотрит на пустое место. А между тем дело идет к вечеру. Он отворачивается наконец от окна и впервые замечает, во что превратилось его жилье. Целый час он занимается квартирой: перемывает грязную посуду, заправляет кровать, убирает в шкаф разбросанную одежду, подбирает с пола бумаги. Затем он долго стоит под душем, бреется, надевает свежее белье и свой лучший синий костюм. Для него начался новый отсчет времени, вот так вдруг, неожиданно и бесповоротно. Нет больше ни страха, ни озноба. Только спокойная уверенность и ощущение правильности того, что он собирается сделать.
Вскоре после наступления сумерек, в последний г раз поправив перед зеркалом галстук, он спускается вниз, пересекает улицу и входит в дом напротив. Он знает, что Черни дома, так как в квартире горит ночник, и, поднимаясь по лестнице, он пытается себе представить выражение лица объекта, когда тот услышит, зачем он пришел. Он вежливо стучит, тук-тук, и слышит голос Черни: входите, дверь не заперта.
Трудно сказать, чего ожидал Синькин, но явно не этого. Черни сидит на постели в маске, той самой, что тогда засветилась на почтамте, и его револьвер тридцать восьмого калибра, из которого с пяти шагов можно сделать из человека решето, нацелен гостю точнехонько в лоб. Синькин стоит как вкопанный. И это называется – перевернуть ситуацию с головы на ноги? И это называется – зарыть томагавк?
Сядьте. Черни показывает револьвером на единственный стул.
У Синькина нет выбора, и он подсаживается к столу. Хотя они сидят лицом к лицу, его позиция слишком неудобна, чтобы броситься на противника и попытаться выбить у того из рук оружие.
Я вас давно жду, говорит Черни. Рад, что наконец пожаловали.
Я догадывался, что вы меня ждете, отзывается Синькин.
Удивились?
Да нет. Если и удивляюсь, то только собственной глупости. Я ведь к вам пришел как друг.
Ясное дело. В голосе Черни звучит легкая издевка. Мы с вами друзья. С первого дня – не разлей вода.
Если вы так встречаете своих друзей, мне остается порадоваться, что я не числюсь вашим врагом.
Очень смешно.
Да, такой вот я смешной. Со мной не соскучишься.
Про маску не спросите?
Зачем? Вам нравится ходить в маске – это ваше личное дело.
Разве вам не хочется за нее заглянуть?
К чему все эти вопросы, если вам заранее известны ответы?
Абсурдная ситуация, да?
Еще бы не абсурдная.
И жутковатая.
Да уж.
А вы мне нравитесь, Синькин. Я с самого начала понял, что мы пара. Ей-богу, вы мне по сердцу.
Может, и я бы испытал к вам подобные чувства, если бы вы перестали размахивать своей пушкой.
Ничего не попишешь. Слишком поздно.
В каком смысле?
Вы, Синькин, мне больше не нужны.
От меня будет не так-то просто избавиться. Вы втянули меня в это дело, и теперь мы повязаны.
Ошибаетесь. Все кончено.
Послушайте, бросьте эту демагогию.
Всё. Игра сделана, пора ставить точку.
Игра сделана?
Сейчас. Сию минуту.
По-моему, вы не в своем уме.
Я в своем уме, и даже слишком. Мой ум завел меня слишком далеко, и назад уже нет возврата. Да вы это и сами знаете, Синькин, и даже лучше меня.
Тогда почему вы не нажмете на спуск?
Всему свое время.
И оставите здесь мой труп? Нет, этот номер у вас не пройдет.
Вы, Синькин, ничего не поняли. Мы уйдем вместе. Вместе, как всегда.
Вы, кажется, забыли одну мелочь.
А именно?
Главного вы мне не рассказали. Разве не этим должно закончиться – вы мне все рассказываете и мы делаем друг другу ручкой?
Вы и так все знаете, разве нет? Вы это знаете наизусть, Синькин.
Тогда зачем было городить огород?
Не надо глупых вопросов.
А я? Зачем вам понадобился я? Смеха ради?
Вы были нужны мне с самого начала. Без вас, Синькин, я бы с этим не справился.
Для чего я был вам нужен?
Чтобы постоянно напоминать мне о том, что я должен сделать. Всякий раз, когда я поднимал глаза, вы были на месте – мой сторож, мой соглядатай, мой василиск. Вы были для меня целым миром, Синькин, и я сделал вас своим палачом. Вы – единственная постоянная величина, тогда как все вокруг способно меняться до неузнаваемости.
И вот теперь все кончено. Вы написали свою предсмертную записку, и нам не о чем больше говорить.
Именно.
Шут, вот вы кто. Шут гороховый.
Пожалуй. Но не больше, чем другие. Уж не собираетесь ли вы тут доказывать, что вы умнее меня? По крайней мере, я знал, что делаю. Мне дали задание, и я его выполнил. А вы как сразу заблудились в трех соснах, так до сих пор и блуждаете.
Ну так стреляй, ублюдок! Синькин в ярости вскакивает и с вызовом стучит себя в грудь. Стреляй, и покончим с этим!
Он делает шаг к противнику, не дождавшись пули – второй шаг, и третий, и четвертый, продолжая кричать «стреляй!» человеку в маске, безразличный к собственной участи. Подойдя вплотную, он вскидывает револьвер и, ухватив Черни за шиворот, одним рывком ставит его на ноги. Тот отбивается, пытаясь сопротивляться, но Синькин, и без того более крепкий, вошел в раж от праведного гнева, в него словно бес вселился, он молотит своего противника куда придется, и тот бессилен перед этим натиском. Через пару минут он лежит на полу бездыханный, а Синькин все никак не угомонится: стучит безвольной головой об пол, пинает тело ногами, обрушивает на него удар за ударом. Дав выход своей ярости, Синькин приглядывается к Черни, пытаясь обнаружить признаки жизни. Сняв с жертвы маску, он прикладывает ухо к губам лежащего – дышит, не дышит? Вроде что-то слышно, но поди пойми, чье это дыхание. Если он и жив, говорит себе Синькин, то часы его сочтены. А если мертв, туда ему и дорога.
Расхристанный, в изорванном костюме, Синькин поднимается на ноги и начинает собирать со стола страницы рукописи. На это уходит несколько минут. После чего он гасит лампу и покидает квартиру, не удостоив Черни прощальным взглядом.
Домой Синькин возвращается за полночь. Положив рукопись на стол, он идет в ванную и смывает кровь. Потом он переодевается и со стаканом виски садится читать рукопись Черни. Время поджимает. В любой момент за ним могут прийти, и тогда будет не до чтения. Но сейчас он гонит от себя эти мысли.
Он прочитывает книгу не отрываясь, от начата до конца. Светает. Запела пичуга, донеслись шаги прохожего, по Бруклинскому мосту пронеслась машина. Черни оказался прав: я знал все это наизусть.
Но история еще не закончилась. Точка будет поставлена лишь после того, как Синькин покинет эту комнату. Так уж устроен мир: ни убавить, ни прибавить. Сейчас он встанет, наденет шляпу и выйдет через эту дверь – тогда и наступит конец.
Куда он потом направит свои стопы, не суть важно. Не стоит забывать, что все это случилось тридцать с лишним лет назад, мы еще пешком под стол ходили. Так что возможен любой поворот. Мне почему-то кажется, что он сел на поезд и уехал на Запад, чтобы там начать новую жизнь. А может, Америкой дело не ограничилось. Втайне я надеюсь, что он купил билет на теплоход и оказался в Китае. Пусть будет Китай, и закроем тему. А в данный момент Синькин встает, надевает шляпу и выходит через эту дверь. Дальнейшее нам не известно.




