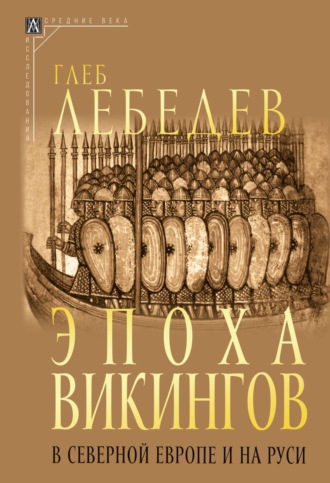
Глеб Сергеевич Лебедев
Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси
Антинорманизм как научное течение зародился также в русле «петербургской школы исторической науки» в пору ее генезиса, через десять лет после смерти Г.-З. Байера (1694–1738), без достаточных оснований оцененного как «основоположник норманизма». В 1749 г. на обсуждение Академии была представлена программа написания русской истории, предложенная ректором академического университета, академиком Г.-Ф. Миллером. Именно против его положений, а также и личного участия в проекте создания обобщающего сочинения по русской истории выступил М. В. Ломоносов, поддержанный академиками С. П. Крашенинниковым, Н. И. Поповым, В. К. Тредиаковским, И.-Э. Фишером, Ф.-Г. Штрубе де Пирмонтом и др. (Ломоносов, 1952: 120–121). При этом полемика, по оценке современного историографа, строилась как заведомо предвзятая и направленная прежде всего лично против Г.-Ф. Миллера, чья «позиция была более объективна, и во всяком случае, более научна, чем построения М.В. Ломоносова» (Хлевов, 1997: 8).
Дискуссия заняла 29 заседаний Исторического собрания академии. Ломоносов, объявляя славянами роксолан (сарматов), готов (германцев), пруссов (балтов), легко и логично доказывал на этом основании изначальное «славянство» варягов, а следовательно, и варяжских князей. В дальнейшем «антинорманистские» положения пополнил и откорректировал В. Н. Татищев, дополнивший материалы Г.-З. Байера данными Иоакимовой летописи (возможно, утраченного в дальнейшем источника, основанного на текстах XI в.).
В. Н. Татищев, участник Полтавской баталии Петра со шведами, не признавал летописных варягов скандинавами, при весьма почтительном отношении к труду Г.-З. Байера (Татищев, 1962: 464). Правда, и к славянам он, в отличие от Ломоносова, относить их не стал, но объявил финнами, полагая, что Рюрик с братьями пришли из Финляндии «от королей и князей финляндских» (Там же: 291). На исходе XVIII столетия, однако, основываясь на тех же источниках, получила поддержку не только «финская» (татищевско-болтинская) версия «антинорманизма» (Болтин, 1788: 163), но и построенная на той же Иоакимовой летописи, и при этом вполне «скандинавская», атрибуция варягов в богатом яркими, хотя при этом и фантастичными положениями (вроде основания Москвы Олегом в 880 г.) «Зерцале российских государей» Т. С. Мальгина (1794).
В ходе этих дискуссий, далеких от строгого и объективного исторического исследования, к началу XIX столетия определились научные основания и построенные на качественной «критике источников» положения «классического норманизма» в труде A. Л. Шлёцера «Нестор». Сжато эти положения сводились к формуле: «скандинавы или норманны в пространном смысле основали русскую державу» (Шлёцер, 1809: 325).
По существу, на шлёцеровских выводах, критическом анализе источников и оценке их данных основывался Н. М. Карамзин, который, по современной оценке, «впервые конституировал норманский теоретический тезис в обобщающем курсе русской истории, введя положение о норманстве призванных князей в число аксиом прошлого. Его труд стал связующим звеном между становящимся норманизмом XVIII века и устоявшимся норманизмом XIX столетия» (Хлевов, 1997а: 18).
Именно этот «устоявшийся норманизм» в середине XIX столетия, после дискуссии Н. И. Костомарова и М. П. Погодина в «Пассаже» Санкт-Петербурга 19 марта 1860 г. (Клейн, 1999: 91–101), стал «видовой» особенностью «петербургской научной школы». Во второй половине XIX столетия «антинорманизм» в тех или иных разновидностях развивают по преимуществу московские ученые: Ф. Л. Морошкин, М. Т. Каченовский, Н. А. Полевой, Д. И. Иловайский. Единственным исключением стал замечательный дилетантизмом своих построений труд директора художественного музея Императорского Эрмитажа и дирекции Императорских театров С. А. Гедеонова «Варяги и Русь», который был издан в Петербурге в 1876 г. Но никто из них так и не смог создать целостной панорамы отечественной истории. Впрочем, наиболее значительные историки «московской школы», С. М. Соловьёв в своей «Истории России с древнейших времен» (Соловьёв, 1959) и В. О. Ключевский в «Курсе лекций по русской истории» (Ключевский, 1987), занимали позиции, которые сторонники «антинорманизма» не могли оценивать иначе, как «норманизм». При этом ни одной столь же целостной панорамы отечественной истории, как у названных авторов, с «антинорманистских» позиций создано не было.
Как и в XVIII, так и в XIX и XX вв. «антинорманизм» (как, впрочем, и крайние, «экстремистские» версии норманизма, распространенные главным образом в зарубежной – шведской, немецкой, английской – научной, научно-популярной и публицистической литературе) основывался на вненаучных, идейно-политических побуждениях. Эти побуждения, конечно, порой стимулировали вполне плодотворную разработку отдельных аспектов и тем, но были несовместимы с обобщением всего корпуса объективных научных данных, где многое противоречило принятым идеологическим установкам. Умолчание или подтасовка этих данных, подмена безусловно скандинавской этнической атрибуции «варягов» любой другой, от славянской до хазарской (!) в пушкинские времена, или – кельтской, в конце XX в., вели (и ведут) исследователей в тупик, очевидный прежде всего их современникам, а в неменьшей мере и следующим поколениям историков.
Выходы из такого тупика обнаруживались, раз за разом, с расширением круга источников и углублением проблематики, возвращавшейся к эпистеме и парадигме «норманизма» со все более спокойным отношением к «остроте» проблемы, и с углублявшимся представлением о многолинейной сложности этнокультурных взаимодействий древности (как и последующих эпох, вплоть до современности). Вряд ли случайно, поколение за поколением и век за веком, платформой такого «возвращения», очагом рождения новых концепций, «ассимилировавших» норманизм (и преодолевавших антинорманизм!), становился Санкт-Петербург.
И дело не только в устойчивости петербургской научной традиции «примата источника над концепцией» (Альшиц, 2001). Очевидно, глубинная взаимосвязь Санкт-Петербурга, в собственном его генезисе, с теми же «скандобалтийскими» процессами, что выводили Русь в IX столетии, а Россию – в начале XVIII в. на мировую и общеевропейскую арену, обусловливает способность к объективному и адекватному восприятию этих процессов. Без особой натяжки можно сказать, что сам по себе Санкт-Петербург, своим появлением и трехсотлетним существованием, представляет конечный и предельный аргумент, ultima ratio «норманской теории».
Неслучайно последовательные «антинорманисты» нередко приходят и к отрицанию «законности» существования Санкт-Петербурга в историческом и культурном пространстве России. Город, в котором триста лет концентрировались лучшие национальные ресурсы для продуктивного обмена с достижениями внешнего мира и создания новых, специфических российских (а не только исключительно петербургских) форм культуры, экономики, политической жизни, не раз за эти же триста лет пытались вывести за пределы русской истории. Начиная с проклятья царицы – Быть Петербургу пусту! – и включая трехкратное переименование города – в Петроград (1914–1924), Ленинград (1924–1991) и снова в Санкт-Петербург (с 1991 г. и до наших дней, надо надеяться, навсегда) – идет мучительное освоение очевидного, для непредвзятого сознания, факта появления этого «скандобалтийского» города в русском пространстве – как наивысшей ступени развития европейского урбанизма Нового времени, и при этом – урбанизма России.
«Феномен Петербурга» во всей его многолинейности взаимосвязей как в настоящем, так и в прошлом (на протяжении многих веков, предшествовавших появлению Санкт-Петербурга), вероятно, позволит понять, по мере вовлечения проблематики «петербургики» в общий контекст «скандобалтики» (вплоть до «варангики»), непростую, но безусловную логику исторического процесса с его начальных времен и до наших дней (Лебедев, 2001а; 2002: 3–5).
Исторический опыт и, в частности, опыт «петербургской научной школы» в неразрывном диапазоне от «скандинавистики» до «петербурговедения» востребован и реализован современной Россией буквально на подсознательном уровне. И это делает тем более привлекательным и, вероятно, значимым возвращение к опыту исторического исследования, опубликованного на заре советской перестройки 1980-х гг.
По сути же, мы обращаемся заново, с опорой и на новый, непосредственный опыт работы во всех Скандинавских странах (недоступной для автора на предыдущем этапе), и на актуальные исследования скандинавских и западноевропейских коллег, археологов и историков, к углубленному изучению исторической действительности отдаленного, но нашего общего прошлого народов стран Европейского Севера, той тысячелетней давности эпохи викингов, когда Европа становилась Европой, а в этой Европе Русью стала Русь.
I. Норманны на Западе
1. Экспозиция. Два мира
A furore Normannorum libera nos, o Domine!
(И от жестокости норманнов избави нас,
Господи!) Собор в Меце, 888 г.
Эпоха викингов для Западной Европы началась 8 июня 793 г. и закончилась 14 октября 1066 г. Она началась с разбойничьего нападения скандинавских пиратов на монастырь Св. Кутберта (о. Линдисфарн) и закончилась битвой при Гастингсе, где потомки викингов, франко-нормандские рыцари, разгромили англосаксов; те же тремя неделями раньше, 25 сентября 1066 г., при Стемфордбридже одержали победу над войском последнего из «конунгов-викингов», претендовавшего на английский престол норвежского короля Харальда Сурового (Хардрада).
«Послал всемогущий бог толпы свирепых язычников датчан, норвежцев, готов и шведов, вандалов и фризов, целые 230 лет они опустошали грешную Англию от одного морского берега до другого, убивали народ и скот, не щадили ни женщин, ни детей» – так под 836 г. писал в хронике «Цветы истории» Матвей Парижский (Стриннгольм, 1861: 14). В XIII в. христианская Европа все еще помнила опустошительные вторжения с Севера. И причиной тому была не только интенсивность, но и неожиданность натиска.
На исходе VIII столетия европейский континент представлял собой весьма неоднородную агломерацию племен, народов и государств. Римское наследие было поделено между тремя великими империями раннего Средневековья: Ромейской (мы ее называем Византией), Франкской империей Каролингов и арабскими халифатами (Мамлакат аль-Ислам).
Границы феодальных государств разрезали в разных направлениях бывшие римские владения. Арабы захватили большую часть Испании, африканские и ближневосточные провинции. Франки завладели Галлией, подчинили земли германцев (до Эльбы). Византия, уступив славянам Фракию и Иллирию, сохраняла господство над Малой Азией и Грецией и соперничала с франками за право обладать Италией.
Внешняя граница феодальных империй Европы проходила, рассекая континент с севера на юг, по Эльбе, верховьям Дуная, Балканам. В течение IX–XI вв. она постепенно выравнивалась и к середине XI в. примерно повторяла очертания традиционной римской границы, «лимеса», правда, продвинувшись кое-где на 500 км в глубь континента (рис. 3).

Рис. 3. Европа в IX–XI вв.
Эта линия разделила Европу на два разных мира. К западу и югу от границы сохранялись традиции христианской религии и церкви, авторитет императорской власти, иерархическая структура управления. Продолжали жить (даже после глубокого упадка) античные города, функционировали старые римские дороги. Колоны и сервы обрабатывали поля бок о бок со свободными франками и славянами – потомками завоевателей. Вожди варваров получили звонкие титулы императорских придворных и правили милостью христианского Бога. Ученые служители церкви наставляли высокорожденную молодежь в латинской и греческой премудрости, а монахи молились за спасение этого просвещенного мира. Сохранялась цивилизация классового общества, вступившего в феодальную формацию Средневековья.
К востоку и северу от имперских границ лежали необъятные пространства континента, покрытые девственными лесами, «мир варваров», barbaricum античной традиции. Здесь, до ледяных просторов океана, жили бесчисленные языческие варварские племена. Широкий клин степей, простиравшийся от Волги до Паннонии, служил просторным проходом, по которому волна за волной в сердце Европейского континента из глубин Азии вторгались кочевые орды: гунны, аланы, авары, болгары, венгры. Они стирали с лица земли своих оседлых предшественников, соседей, а затем и друг друга или гибли в борьбе с феодальными державами. Лишь последняя из этих волн, венгерская, смогла войти в семью народов Европы.
Вдоль границы степной зоны, обтекая ее, расселялись славяне. Они заполонили пространства слабеющей Восточно-Римской империи, вдохнув в нее новые жизненные силы; создали несколько недолговременных государственных образований, основанных на союзе с кочевниками: такими были Аварский каганат, разгромленный франками, и Болгарское ханство, быстро трансформировавшееся в славянское царство. Наконец в начале IX в. они создали свое первое феодально-христианское государство Великую Моравию: общеславянская культурная традиция, зародившаяся здесь, развивалась затем на протяжении многих столетий (Dekan, 1976: 175).
С севера и северо-востока соседями славян были летто-литовские (балты) и финно-угорские народы (Gimbutas, 1963; Haidu, 1976), частично включившиеся (в ходе славянского расселения) в процесс формирования древнерусской народности (Третьяков, 1970; Русанова, 1976). Южными соседями славян и финно-угров были тюркские племена, образовавшие в безбрежных степях Евразии несколько могущественных каганатов. Для судеб Европы наибольшее значение из них имел Хазарский каганат, находившийся между Днепром, Волгой и Кавказом (Артамонов, 1962). В политическую орбиту Хазарии попали некоторые славянские племена, обитавшие по Дону, Оке и Среднему Днепру.
Родственные хазарам булгары разделились: часть из них ушла на Балканы и слилась со славянами, дав начало Болгарии. Другие, продвинувшись на Среднюю Волгу, создали государство со столицей Великий Булгар. Политическое влияние Волжской Булгарии охватывало финно-угорские племена Поволжья, Прикамья и Приуралья.
Тюрки (хазары и булгары) были тесно связаны с культурным миром Средней Азии и Закавказья. В Итиле, столице хазар, пересекались торговые пути в Хорезм, Закаспий, Армению и Грузию, Крымскую Готию и византийские владения. Уже в начале VIII в. из Хазарии в обмен на восточноевропейские товары (пушнину, мед, воск, моржовую кость, рабов) среднеазиатское и иранское серебро проникало далеко на север, достигая земель обских и приуральских угров. Речные, морские и сухопутные пути с юга связывали Европейский континент с миром Востока и Средиземноморья.
С севера, отделенный водами Балтийского и Северного морей, над европейским континентом нависал Скандинавский полуостров, Scandia, Scadan, Scandza, англ. – сакс. Sconeg, Scedenieg – «прекрасный остров» (Матузова, 1979: 21, 34, прим. 54), может быть, от Scåne (Scåney), названия юго-восточной оконечности полуострова – Сконе (Шония); эта земля в литературной традиции поздней античности и раннего Средневековья запечатлелась как «утроба народов», vagina nationum. Отсюда, согласно германским эпическим преданиям, воспринятым латинской книжностью, вышли и расселились по Европе, до Испании и Италии включительно, вестготы и остготы, гепиды и вандалы, бургунды и лангобарды – и едва ли не все германские племена (Hachmann, 1970: 33, 47).
Раннеримские и греческие источники почти ничего не знали об этой земле, Ultima Thule, затерянной на краю ойкумены, где-то в прибрежных пространствах океана. Тем неожиданнее было появление многочисленных и воинственных народов, волна за волной обрушивавшихся с конца III в. – на пограничные провинции, а в IV в. и особенно в V в. – на всю территорию империи. Они громили римские войска, уничтожали города, захватывали земли, неудержимо распространялись с северо-востока на юго-запад, от Скандинавии до Испании, захлестывая гибнущий рабовладельческий античный мир.
К исходу VI в. это движение как будто исчерпало свои силы. Победители начинали смешиваться с побежденными; в бывших римских провинциях крестьянские порядки германских общин распространялись наряду с римским правом, подготавливая основу феодализма, а светские и духовные магнаты утверждали свои владельческие права, уже воплощая этот феодализм в жизнь. С принятием варварами христианства и хотя бы формальным включением в политическую структуру, унаследованную от Римской империи, процесс, который называют «римско-германским синтезом», можно считать завершившимся. Конечно, политическая карта еще не раз менялась: серьезные изменения принесли войны византийского императора Юстиниана в середине VI в., арабские завоевания VII – начала VIII столетия; неустойчивой была и северо-восточная граница христианского мира, вдоль нее продолжалось движение варварских масс, время от времени грозовыми разрядами били оттуда вторжения кочевников. Но определенный порядок уже установился, для Западной Европы Великое переселение народов было завершено.
Пришельцы из неведомых северных земель сохраняли, конечно, связь со своими сородичами, оставшимися на родине. Но для цивилизованной Европы далекие страны на окраине мира стали скорее эпической, нежели географической реальностью. Scandza лежала в той же сфере понятий, что и библейские «Гог и Магог»: это была некая точка отсчета в мифологизированном эпическом прошлом, но вовсе не составная часть политико-географической реальности христианского мира VIII столетия.
Политическая карта Европы той поры уже несла в себе эмбрионы большинства современных народов и государств. В контурах Франкской империи Каролингов угадываются основы Франции, Германии и Италии. Британия на западе и Болгария на юго-востоке Европы уже оформились как политические образования. Славяне расселились на территории нынешних Сербии, Хорватии и других балканских государств, Чехии и Словакии, Польши, Украины, Белоруссии и России. В конце IX в. пришли в Подунавье для «завоевания родины» венгры. Разъединенные и многочисленные северогерманские племена жили на территории будущих нидерландских и скандинавских государств. С лица земли исчезли огромные этнические массивы древности: кельты, фракийцы, иллирийцы, сарматы. Начиналась история современных европейских народов.
Однако структура континента резко отличалась от привычной нам. Европа VIII в. разделена, но разделена иначе, нежели Европа Высокого Средневековья и Нового времени. Нет еще «Запада», объединяющего германско-романские страны от Норвегии на севере до Испании на юге Европы. Есть христианский, римско-византийский, «романский» мир, широкой полосой протянувшийся от Британии до Босфора; есть примыкающий к нему с юга мир мусульманский, включивший в себя иберийское звено будущего «Запада»; и есть противостоящий этим феодальным цивилизациям (при всех различиях – принадлежащим одной социально-экономической формации) мир варварский, который объединял в своем составе германские, славянские и многие другие племена и народы.
Мир устоявшийся и мир становящийся, развитый и развивающийся – вот что разделяла внешняя, обращенная на север и восток граница феодальных империй. Мир, уже реализовавший возможности перехода к новому общественному строю, и мир, которому этот переход еще предстоял, где «феодальная революция» еще должна была развернуться, раскрывая внутренний потенциал устойчивого, по-своему процветающего и самостоятельного «варварского общества».
Особое, пограничное положение между этих двух миров занимала Британия (Глебов, 1998; Мельникова, 1987). Бывшая римская провинция была покинута римлянами задолго до того, как остров заполонили германские пришельцы, англы, саксы, юты. Они уже не застали здесь живого римского наследия и иной культуры, кроме местной, поверхностно христианизированной кельтской (заповедником которой осталась в VI–VII вв. свободная от пришельцев Ирландия). В 455–473 гг. разноплеменные дружины Хенгиста и Хорсы основали на полуострове западного побережья Британии первое германское королевство, Кент; к 491 г. саксонский вождь Элла с сыновьями завоевал южное побережье, получившее имя Суссекс (Южные Саксы), а в 495 г. Кедрик и Кенрик основали королевство Западных Саксов – Уэссекс.
Согласно Беде Достопочтенному (672–735), автору «Церковной истории народа англов» (Historia ecclesiastica gentis anglorum), в ходе расселения саксы занимали преимущественно южную, англы – восточную и северную часть Британии, а на полуострове Кент осели юты (переселившиеся из-за Северного моря, с полуострова Ютландия, вслед за ними занятой данами, сдвинувшимися с южной оконечности Скандинавского полуострова, Сконе) (Beda Venerabilis, 1848: 15).
Племенное разделение завоеванных британских территорий вряд ли было на самом деле столь строгим (Глебов, 1998: 30–32), однако к 600 г. большую часть Британии занимала дюжина англосаксонских королевств, и лишь к северу от реки Клайд, в современной Шотландии, да вдоль западного побережья, в Уэльсе, сохранялись независимые кельтские королевства бриттов – Думнония, Дайфед, Пойс, Гвинед на юго-западе, Регед, Стречклайд, Вотадины, Далриад, Манау и пикты в горах на севере острова. Все они, а прежде всего уэльские кельты, непрерывно должны были отражать постоянный натиск пришельцев, саксов Суссекса, Уэссекса и Эссекса, мощной Мерсии, Нортумбрии и остальных англосаксонских королевств.
Те, правда, несмотря на общность происхождения, языка, культуры и политические связи династий, «находились в отношениях более кровавых, чем дружеских» (Wilson, 1966: 29). Постоянные междоусобицы и борьбу за гегемонию в агломерации англосаксонских государств сдерживало лишь общее стремление завоевателей удержать и расширить уже завоеванное в борьбе с общим противником, кельтами (бриттами). С первых десятилетий переселения один из англосаксонских королей носил почетный титул bretwalda, дословно «владыка бриттов», и был военным вождем антикельтской коалиции англосаксов, возглавляя всех остальных королей; они признавали его главенство тем, что, наряду с этим титулом и титулованием по собственному государству, его могли именовать также «король англов» или «король саксов» и даже римским титулом imperator (Глебов, 1998: 36–37).
«Англосаксонская хроника», составленная в Уэссексе при короле объединенной Англии Альфреде Великом в 891–892 гг., перечисляет до 829 г., первого сравнительно прочного объединения государств вокруг короля западных саксов Эгберта, семерых «бретвальд»: ими попеременно были правители Суссекса – Элла (491–?), Уэссекса – Кеавлин (560–592), Кента – Этельберт (560–616), Эссекса – Редвальд (?–616) и Нортумбрии – Эдвин (616–632), Освальд (633–641), Освью (641–670) (The Anglo-Saxon chronicle, a. 825: 171). Очевидно, однако, что этим титулом пользовались и могущественные правители враждебной Уэссексу Мерсии – короли Этельбальд (716–757) и Оффа (757–796) (Глебов, 1998: 36).
Англосаксы сохранили общественную структуру, более архаичную и варварскую, нежели у франков или вестготов Западной Европы. Превращаясь в феодально-христианскую, эта структура, начиная с крещения англосаксов миссией св. Августина с 596 г., в дальнейшем – первого архиепископа Кентерберийского (Wilson, 1966: 30), в то же время оставалась во многом близкой общественным структурам, сохранявшимся в Дании и на Скандинавском полуострове – тех землях, откуда пришли новые обитатели Англии. Сохранялось и сознание этой связи.
Героический эпос «Беовульф», записанный в англосаксонском монастыре (ок. 800 г.), повествует о данах и гаутах, обитателях Скандинавии, его герои – тамошние конунги – сражаются в Ютландии и Фрисландии, Средней Швеции и на датских островах. Нет сомнения в том, что не только эти места и события знакомы и понятны аудитории эпического сказителя. Герои и их отношения, ценности и уклад жизни объединяли в «цивилизации северных морей» Скандинавию и Англию. Она предстает «сугубо христианской страной, население которой слагало и записывало языческие поэмы… на вполне северном языке, продолжало порой употреблять руническую (по сути своей языческую с магической основой) письменность… где наряду с глубокими христианскими основами мирно продолжали существовать многочисленные языческие пережитки… совершенно нордического, неотличимого от синхронных скандинавских, обряда (Саттон-Ху, ок. 625 г.), по которому был захоронен король, живший в христианском окружении и, возможно, сам склонявшийся к этой вере» (Хлевов, 2002: 21).
Взгляд повествователя «Беовульфа» все время обращен за море, он никогда не вспоминает об Англии; это – североевропейский языческий эпос, записанный англосаксонским христианином (Смирницкая, 1975: 636–638). К эпическим Géot (гаутам, готам Южной Швеции или острова Готланд) этого и подобных дружинных сказаний возводили свой род англосаксонские короли (Hachmann, 1970: 55). Может быть, материальным отражением именно этой связи остался мемориальный комплекс в Саттон-Ху, запечатлевший обряд, близкий династическим погребениям в ладье Средней Швеции «вендельского периода» VII–VIII вв. (Wilson, 1981; Хлевов, 2002: 103–108, 250–251).
Под монументальным курганом близ Вудбриджа в Суффолке, на берегу реки Дебен (в ста с небольшим километрах на северо-восток от Лондона, в виду морского побережья) в 1939 г. был открыт и исследован погребальный корабль (длиною 26 м, шириною до 5 м, с 26-ю шпангоутами), с устроенной в центре судна, завешенной тканями погребальной камерой, с великолепным убранством, вооружением и сокровищами королевского ранга. Останки тела не сохранились (как и многое из органики, да и металлического инвентаря, с чрезвычайной тщательностью извлеченного и изученного археологами). Однако это захоронение, центральное в группе из двадцати курганов Саттон-Ху (в том числе с подобными, но значительно более скромными захоронениями в ладье), идентифицируют как могилу Редвальда, короля Восточной Англии (East Anglia), умершего в 624/25 г. (Evans, 1986).
Христианская миссия, начатая в Кенте при короле Этельберте (560–616) Августином, настоятелем римского монастыря Св. Андрея, по поручению папы Григория I Великого (590–604), добилась, в частности, крещения Редвальда (Глебов, 1998: 64), но, по-видимому, обращение конунга не распространялось на ближайшее его окружение. Англосаксы оставались язычниками, поклоняясь древнесеверным Водану (Одину), Тору и Тиу (память о чем до сих пор хранят английские названия дней недели: Tuesday – «День Тиу», вторник; Wednesday – «День Водана», среда; Thursday – «День Тора», четверг). Даже крещеный Редвальд не только был похоронен по обряду, типичному для языческой скандинавской знати, но и при жизни своей установил у себя в храме два алтаря, один для христианского богослужения, другой – для традиционных языческих ритуалов, а в захоронении его среди дорогого убранства хранились две ложечки, на одной из которых выгравировано имя апостола – «Павел», а на другой – его же языческое имя «Савл» (Мельникова, 1987: 37–38).
Лишь к середине VIII в. Англия была охвачена сравнительно прочной сетью церковной организации, из двух десятков диацезов (епископатов), с архиепископствами в Кенте и Йорке и множеством монастырей от Эксетера на юге до Линдисфарна на севере страны. Положение римско-католической церкви у англосаксов осложнялось, однако, не только установившейся со времен папы Григория терпимостью к языческим народным верованиям: по свидетельству Беды, римский первосвященник запрещал британскому духовенству разрушать старые святилища и храмы германцев, полагая, что «сам народ, видя храмы свои неразрушенными, тем охотнее будет стекаться в места те, к которым привык», постепенно приобщаясь, наряду с языческими ритуалами, к нововводимым христианским таинствам (Beda Venerabilis, 1848: Е 30). Наряду с древнесеверным (а местами – и друидическим кельтским) язычеством, своеобразие духовной атмосферы англосаксонской Британии определяло устойчивое соперничество между римско-католической и более давней на Британских островах кельто-ирландской церквями (Глебов, 1998: 70–74).
Церковь Ирландии, восходящая к первым векам христианства, укрепилась со времен св. Патрика (ум. 493) и отличалась высоким уровнем монастырской организации, авторитетом и подвижнической активностью монашества. Особую роль в распространении христианства в Британии, среди пиктов, скоттов, а затем и англосаксов, сыграло подвижничество канонизированного впоследствии ирландца Колумбы (521–597). Покинув аббатство Дарроу в Ирландии, с двенадцатью спутниками он в 563 г. основал монастырь на острове Айона (Iona) у северо-западного берега Шотландии, и ко времени его кончины построенные по ирландскому образцу учениками его монастыри покрывали всю страну скоттов севернее реки Клайд.
Созданную св. Колумбой монастырскую систему сравнивают со средневековыми орденами францисканцев и доминиканцев XIII–XIV вв., но, в отличие от них, она полностью заменяла собою организацию «белого духовенства», подчинявшегося епископам диоцезов. Сам ирландский термин muintir (от лат. monasterium) обозначал здесь не только обитель, но прежде всего – религиозную общину, где диоцез подчинялся установлениям аббата, а не епископа.
Король Нортумбрии Освальд (633–641), получивший воспитание у монахов Айоны, вступив на престол, призвал св. Эйдана, видного деятеля ирландской церкви, и тот основал монастырь близ королевской резиденции Бамбург на острове Линдисфарн. В дальнейшем в этом монастыре подвизался св. Кутберт (признанный его небесным покровителем), а в первой половине VIII в. в сане епископа – Кюневульф (ум. 750), создатель нескольких поэм и «канона Кюневульфа», воплощенного в цикле англосаксонской церковной поэзии 750–850 гг. Наиболее известная из поэм этого цикла посвящена одному из главных христианских патронов Великобритании, апостолу Андрею (Мельникова, 1987: 144–145).
Монастырь Линдисфарна, соединивший черты кельто-ирландской и римской церкви в Англии, стал первой жертвой набегов викингов, и, не выдержав постоянной опасности с моря, в 875 г. монахи его покинули, взяв с собой мощи св. Кутберта и драгоценный экземпляр Евангелия, чтобы после восьми лет скитаний по стране обосноваться у ее восточных берегов, в Честере; к этому времени в Нортумбрии из четырех диоцезов действовали лишь два (Глебов, 1998: 86–87).
Сохраняя память о своем родстве со скандинавским языческим миром, англосаксы в это время были уже европейскими христианами; Север стал для них частью языческого прошлого. Географически отделенная лишь Северным морем, Британия была ближе других стран к Скандинавии; но исторически она ушла вперед, в другую эпоху. Вероятно поэтому удар, последовавший с Севера на исходе VIII столетия, был особенно внезапным и потрясающим воображение.


