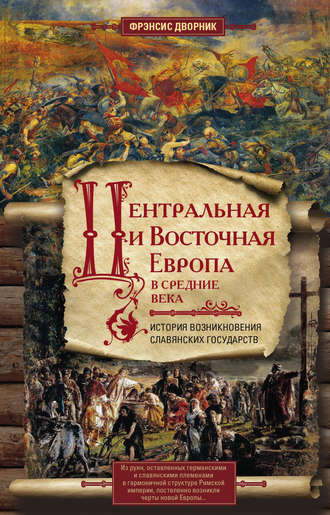
Фрэнсис Дворник
Центральная и Восточная Европа в Средние века. История возникновения славянских государств
Мы располагаем документом, который раскрывает грандиозный план, задуманный императором, – буллой, изданной папой Иоанном XII, датированной 12 февраля 962 года, в которой понтифик санкционирует возвышение аббатства Святого Мауриция (Маврикия), основанного Оттоном I в Магдебурге в 937 году, в архиепископство. Даже не разобравшись с границами новой столицы, папа дал Оттону I и его преемникам право создавать диоцезы на всех славянских землях, где они посчитают удобным, и подчинять их юрисдикции Магдебурга. В свете этого документа Оттон, вероятно, грезил о новой империи, всеобщей и христианской, раскинувшейся на землях старых и новых, вокруг трех центров – Рим, Экс-ла-Шапель и Магдебург. Чтобы торжественно заявить о новом статусе Магдебурга и его роли в построении славянского мира к востоку от Эльбы, Оттон I послал в 961 году миссионера в Киев. Речь идет о епископе Адальберте, монахе аббатства Святого Максимина в Трире, будущего архиепископа Магдебурга. Эту миссионерскую экспедицию до сих пор окутывает завеса тайны. Все предприятие казалось русским историкам настолько экстравагантным, что некоторые из них даже отрицали аутентичность сообщения о нем, тем более что оно встречается только в одном германском источнике – продолжении хроники Регино, автором которого является или сам Адальберт, или кто-то из его ближайших друзей.
Однако нет сомнений в том, что Оттон имел планы на Русь, и никого не должен удивлять тот факт, что германский король X века пытался установить контакт со страной – в своих интересах, естественно, – которая его интересовала. Расстояние между Германией и Русью было очень большим, и, учитывая ограниченные возможности транспорта того времени, оно исключало регулярное общение. Зато информация путешествовала между этими странами намного быстрее, чем это казалось возможным. Прежде чем говорить о русских планах Оттона, давайте вернемся к истокам Русского государства.
В политической организации восточных славян, обосновавшихся между Карпатами и средним течением Днепра, на берегах Припяти и бассейна верхнего Днепра, куда мигрировали последовательными волнами в 1-м тысячелетии до и. э. из славянской колыбели между Эльбой, Вислой и Бугом, главную роль играл германский народ, скандинавы из Швеции. Именно они заменили среди славянских племен, которые впоследствии стали называться русскими, антов, вероятно имевших иранское происхождение, и аваров, разгромивших империю антов. Аварское правление, в свою очередь, тоже потерпело крах, некоторые племена вернулись к независимости, а другие были покорены хазарами. Эти относились к тюрко-татарской ветви. Они, возможно, помогли славянам юга Руси окончательно сбросить аварское иго и сразу заняли позицию, которую освободили авары. Центр Хазарской империи располагался на Нижней Волге и на Дону. Империя простиралась от Черного моря до Аральского, а в северном направлении – до Оки.
Булгары были следующей тюркской нацией, создавшей империю на Средней Волге и Каме, и, поскольку они инстинктивно двигались к западу, существовала серьезная опасность, что границы Европы передвинутся дальше на запад под натиском наступающих азиатских племен. Эту опасность отразили скандинавы, которые появились среди восточнославянских племен как раз вовремя, чтобы объединить их в прочный политический блок, который смог преградить движение на запад азиатских орд. Он даже внес свой вклад, по крайней мере в конечном итоге, в экспансию европейской цивилизации на восток – далеко за Волгу и Уральские горы.
Приход северян к восточнославянским племенам – долгая и захватывающая история. Еще в VIII веке экспедиции по Балтийскому морю привели их к балтам и финнам, жившим на его восточном побережье. Там они, вероятно, услышали о существовании двух процветающих империй, созданных хазарами и булгарами. Хазары в это время вели оживленную торговлю с арабами Багдада. Этот город в те времена процветал и высоко ценил товары с севера, в первую очередь меха, которых было много, и рабов. За это арабы очень хорошо платили, и хазары стали самым влиятельным посредником между внутренними районами будущей России, славянскими племенами, живущими там, и арабами. Волга была уникальной водной артерией, обеспечивавшей связь.
Евреи, которых всегда было много на побережье Черного и Азовского морей, должно быть, играли важную роль в этой торговле. Нам известно, что их деятельность в Хазарии была довольно-таки оживленной и они даже обратили хазарского кагана и большую часть местного населения в свою веру. Но северяне быстро напали на след и обнаружили крупную водную артерию, по которой велась торговля, – реку Волга, но, вероятнее всего, подошли к ней не из Рижского залива, а из Финского залива и из Ладожского озера. Хотя Г. Вернадский в «Древней Руси» утверждает, что скандинавы направлялись от Рижского залива к реке Дон, но не выдвигает убедительных аргументов в поддержку своей теории. Тот факт, что в районах Двинска, Витебска, Ковно (Каунас) и Пскова следов скандинавов очень мало, также не подтверждает его теорию. Ладога дает легкий доступ к Волге через Белоозеро (Белозерск). Был еще и третий маршрут – через озеро Ильмень, которое славяне исследовали в IX веке. На этих маршрутах были основаны две важные скандинавские колонии – в Белоозере и в Новгороде, вероятно Рюриком и его братьями.
Известно, что некоторые арабские авторы (Ибн Руста и Гардизи) помещают колыбель «русов» на лесистый и заболоченный остров – описание указывает на начало водных путей, которыми следовали скандинавы: Ильмень, река Волхов, Ладога. Многочисленные раскопки, проведенные на плато и в местах сближения Невы, Волги, Днепра и Двины, подтверждают это предположение. В арабских текстах говорится об оживленной торговле между скандинавами, булгарами и хазарами, которая могла вестись только по Волге. Булгары были достаточно разумны, чтобы обеспечить викингам свободный проход по своей территории, получая от этого доходы. То, что арабские тексты упоминали сначала хазар, а потом булгар, вовсе не означает, что авторы имели в виду русскую колонию, живущую на берегах Азовского моря, то есть ближе к хазарам, чем к булгарам. Арабы, конечно, рассматривали территории под своим углом и сами были ближе к хазарам, чем к булгарам. И тогда ничто, по моему мнению, не подтверждает теорию Вернадского о том, что арабские авторы имели в виду болота Таманского полуострова, что напротив Керчи в Крыму.
Местное население быстро привыкло к периодическим экспедициям скандинавских воинов и торговцев. Они следовали из Швеции, которая, вероятно, была известна финнам, в это время заселившим балтийское побережье, как Руслаген. Часть Швеции, которая до сих пор носит это название, судя по всем признакам, была первой, которую узнали финны. Финны преобразили скандинавское название в Руотси, арабы – в Рус, а византийцы – в Рос. Так Русь возникла на карте мира. Название «варяг», вероятнее всего, относится к более позднему времени. Варягами византийцы называли скандинавов (арабы переделали это название в «варанги»). Это слово имеет скандинавское происхождение. Эксперты считают его производным от скандинавского Vaeringjar, или союзник. Любопытно, что слово схоже с англосаксонским Waereng, что означает чужак.
Скандинавы, таким образом, были известны булгарам, хазарам и также арабам – многими сведениями о скандинавских экспедициях мы обязаны именно арабским авторам. Скандинавы доходили по Каспийскому морю до самого Багдада. Хазары, должно быть, относились к ним с уважением, и вполне можно предположить, что северяне, которых император Феофил послал к Людовику Благочестивому в 839 году, о чем говорится в Вертинских анналах, были не простыми торговцами, а послами кагана, который принял их на службу. Г. Вернадский считает этот документ свидетельством существования независимого русского каганата с центром на Таманском полуострове, основанного аланами, смесью славян и скандинавов. Однако в документе ничто не указывает на существование подобной политической агломерации. Если русские, о которых идет речь, действительно пришли с Таманского полуострова и из города Тмутаракань, столицы предполагаемого каганата, тогда почему император Феофил не отправил их обратно к месту назначения морем? Ввиду отсутствия враждебно настроенного населения, послам на этом пути ничто не угрожало. У нас нет оснований сомневаться в аутентичности утверждения, но, если предположить, что послы прибыли из Хазарии, все трудности исчезают. Поскольку путь из Итиля, столицы Хазарского каганата, в Сар\кел, что в дельте Дона, или в Херсон был обычной «магистралью» для азиатских орд, рвущихся на запад, он редко был безопасным, а в данном случае главная опасность, судя по всему, исходила от мадьяр. Отправку императором Феофилом послов к Людовику Благочестивому нельзя объяснить тем, что он хотел от них избавиться и помешать им вернуться в каганат. Если бы таково было его намерение, для его выполнения существовали другие способы и средства. Почему русские послы так кротко пошли в ловушку? Если бы император хотел не позволить им вернуться домой, потребовался бы более сильный эскорт, чтобы удержать сильных и смелых скандинавских воинов, которые определенно знали Европу лучше, чем любой греческий посол.
В те времена скандинавы были единственными людьми в Европе, знавшими о возможности возвращения в Хазарию из Константинополя по Средиземному морю и через Германию, и через Балтику и Ладогу по Волге, в то время как намного более короткий путь по Черному морю и Крыму был перерезан новыми захватчиками.
Контакт, установленный скандинавами, между хазарами и арабами не привел к таким глубоким переменам в европейской истории, как, например, открытие теми же скандинавами пути из Новгорода через Днепр и Черное море в Константинополь. Скандинавы торговали с византийцами начиная со второй половины IX века. Третья по значимости скандинавская колония была создана к востоку от Смоленска, где Волга и Днепр сближаются. На пути в Константинополь жили только слабо связанные друг с другом славянские племена, и, поскольку скандинавы всегда путешествовали крупными силами и при оружии, им было легко захватывать рабов и таким образом почти даром пополнять «ассортимент» своих товаров. И славяне вскоре поняли, что им лучше принять любых мародеров в качестве правителей и защитников, даже если придется платить дань.
Географическое положение славянских племен было достаточно выгодным. Они жили вдоль великого торгового пути, соединявшего север с Черным морем и греческим культурным миром. Они также стали наследниками скифов, готов и сарматов, контролировавших этот путь ранее. Многочисленные города выросли, словно грибы, на юге современной России. В них жило смешанное население – греки и местные жители, и они служили торговыми центрами между внутренними районами России, севером, востоком и греческими колониями в Крыму и на Таманском полуострове.
Пришельцы в степи между Днестром, Днепром и Доном – скифы, сарматы и готы – довольно быстро узнали о важности этого коммерческого общения. Они не трогали эти центры, довольствуясь сбором дани и получая от них свой доход. Готы – последние из «творцов империй», глядя на Днестр, испытывали искушение двигаться на юг, и вскоре он стал классическим путем «из варяг в греки». Гунны и авары сеяли хаос на юге современной России, но за ними пришли хазары, возродившие мирные традиции прошлого. Славяне, которые шли до и после готов вдоль Днепра, овладели некоторыми торговыми центрами и узнали от сарматов, своих новых хозяев, от антов и хорватов, секреты торговли. Самым важным центром торговли был Киев, откуда торговые пути лучами расходились на север, юг и запад. Западный путь, вероятно, был открыт готами, которые торговали с западными римскими провинциями и раньше, а теперь продолжили торговлю, обосновавшись на юге современной России. Это, вероятно, объясняет существование линии связи между Киевом и городами Червен, Пшемысль и Краков, а также указывает, почему Краков стал столицей белой Хорватии. Оттуда был довольно легкий доступ через долины Моравы и ее притока к Дунаю, а также через долину Влтавы и ее притоков к Эльбе. Подъем моравов в IX веке и торговый рост Праги в X веке следует рассматривать в этой окружающей обстановке.
Хазары, захватившие монополию торговли с исламским востоком и Малой Азией, начиная с VII века видели значение Киева и поспешили аннексировать его вместе со славянскими землями в среднем течении Днепра. Но скандинавы видели его тоже, и, поскольку хазары не могли обеспечить славян адекватной защитой от мародерствующих кочевников, особенно мадьяр, которые жили в это время на юге современной России, они охотно обменяли господство хазар на власть скандинавов. Это был мирный и гладкий обмен. Славянские города во многих случаях решали вопрос со скандинавами, заключая договора о защите. Константин Порфирогенет утверждает, что славяне были союзниками (pactiotes) русских.
Традиция, приписывающая оккупацию Киева Аскольду, вероятно, имеет под собой основания, но варяги, скорее всего, принадлежали к другому клану, не к скандинавам, обосновавшимся в Новгороде во главе с Рюриком. И поскольку кланы желали навязать свою власть как можно большему числу славян, они, похоже, враждовали друг с другом. Это объясняет противостояние, которое позже началось между Новгородом и Киевом. Сначала Новгород и Киев держались обособленно – два скандинавских славянских государства были независимыми.
К сожалению, у меня не было возможности проследить эту интересную эволюцию – о ней писал Вернадский. Однако его трактовка поселения скандинавов в Клеве не кажется мне удовлетворительной. Увы, нет достаточного количества свидетельств существования сильной варяжской колонии на восточном побережье Азовского моря и еще меньше свидетельств наличия сильного русского каганата со столицей в Тмутаракани. Идея, безусловно, чрезвычайно интересна и была бы бесспорной при наличии большего числа фактов, которых, увы, нет. Особенно то, что Вернадский говорит о роли, сыгранной, по его мнению, этим каганатом в заселении скандинавами территорий, прилегающих к Рижскому заливу, и Киева, основано на зыбкой почве. По этой причине я предпочитаю придерживаться старой трактовки известных фактов.
Скандинавы Киева и их союзники имели только одну амбицию: захватить и разграбить самый богатый город мира – Константинополь. Их торговые отношения с Византией показали, как много богатств таится за стенами города, охраняемого Богом, как его называли византийцы. В лучших скандинавских традициях было бы добраться до этого города и захватить его внезапной атакой. Отсюда их знаменитое нападение на Константинополь в 860 году. Император Михаил III был в это время со своей армией и флотом в экспедиции против арабов в Малой Азии (скандинавы имели достоверную информацию о том, что происходило в Константинополе), но попытка не удалась. Император вовремя узнал о ней, вернулся и отбил атаку русских. Позднее византийская традиция приписала освобождение Константинополя чуду, сотворенному Святой Девой, и молитвам святого патриарха Фотия, что показывает, какое сильное впечатление произвело на византийцев русское нападение.
Демонстрация русских на Босфоре имела последствия и для них самих, и для Византии. Прежде всего, византийцы, встревоженные новой угрозой, отправили посольство к хазарам, желая установить дружественные отношения против общей угрозы и защитить свои владения в Крыму. Двумя самыми выдающимися членами делегации были два брата, Константин-Кирилл и Мефодий, которым судьбой было предназначено стать святыми покровителями всех славянских наций и от религиозной и культурной деятельности которых русские выиграли больше, чем все славяне. И снова патриарх Фотий сосредоточил все усилия на обращении русских, и, как он сам признал в 866 году, преуспел. Киев официально стал христианским, Аскольд принял крещение вместе со всеми своими последователями. В Киеве было создано епископство для скандинавов и для славян.
Вся история России, возможно, сложилась бы иначе, если бы христианство на этой первой стадии выдержало испытание временем в Киеве и распространилось оттуда на другие земли на востоке. К сожалению, первое крещение Руси оказалось недолговечным. В русских анналах (Повесть временных лет, также называемая Первоначальная летопись, и Несторова летопись, написанная анонимным автором в 1113 году) сказано, что князь Олег отправился из Новгорода с варягами, славянами и финнами на юг к Двине и Днепру по реке Ловать, захватил колонию скандинавов у Смоленска и появился перед воротами Киева. Не в силах противостоять натиску, Аскольд был убит вместе со многими воинами, и это стало концом христианства в Киеве. Новые правители были язычники, и Руси пришлось еще целый век ждать христианских миссионеров. В то же самое время захват Киева северянами Новгорода объединил всех скандинавских поселенцев под властью одного правителя, основателя новой династии. Так родилось Русское государство.
Олег занял Киев около 882 года. Важность центра, построенного в месте слияния Десны и Днепра, была настолько очевидной для новых завоевателей, что они решили устроить там свою резиденцию, а в Новгороде оставить только гарнизон. Следующим шагом стало укрепление и расширение их власти над славянскими племенами на обоих берегах Днепра и перенос границ Хазарской империи на восток в направлении Дона. Это было сделано в последующие годы.
Через несколько десятилетий поднялась и окрепла новая империя. Скандинавы и славяне слились в один народ. В 911 году новое государство впервые получило международное признание, когда византийский император Лев VI заключил торговый договор с Олегом. Византийцы, понимая, что не смогут изменить новую ситуацию в Киеве, хотя и сожалели об уничтожении первого русского христианского сообщества новыми правителями, решили использовать долгосрочный метод мирной инфильтрации и, несмотря на попытку, сделанную в 941 году сыном Олега – Игорем, – захватить Константинополь, такие взаимоотношения стали традицией. Потерпев поражение, Игорь возобновил пакт 911 года.
Дружеское общение между Русью и Византией, естественно, облегчило проникновение христианства. У русских торговцев был свой квартал в Константинополе, недалеко от церкви Святого Мамы, и как мы узнаем из анналов Нестора, в 944 году существовала церковь Святого Илии, где русские христиане клялись соблюдать положения торгового соглашения с Византией. Важность этого христианского сообщества в Киеве стала очевидной, когда Игорь был убит во время мятежа племени древлян и его супруга Ольга стала регентшей.
Скандинавская дама была мужественной женщиной. Она быстро и решительно подавила восстание древлян, и, поскольку их территория являлась важным связующим звеном между южной частью нового Русского государства с севером, она присоединила ее к Киевскому княжеству и лишила мятежников права на собственного правителя. Чтобы обеспечить единство обширных русских земель, она жила попеременно в Киеве и Новгороде вместе с сыном Святославом. Мы также располагаем информацией о ее финансовых делах, а также сборе налогов и дани на севере и юге. Будучи мудрым управленцем, она вполне заслужила высокое уважение нескольких поколений русских.
Ольга быстро осознала важность Византии для русской жизни, и ей хватило здравого смысла понять, что в интересах русских наладить близкие отношения с империей. Ее положительное отношение к христианству диктовалось не только женским инстинктом, более склонным к духовности, чем инстинкт воина-викинга, но также государственными соображениями. Поэтому она приняла крещение в Константинополе.
До сих пор существует сомнение, где крестилась Ольга – в Киеве или в Византии. На первый взгляд более вероятным местом является Киев. Там в районе церкви Святого Илии жила большая христианская община, возникшая на руинах первого центра, основанного греческими миссионерами под руководством Аскольда и Дира, и она процветала на коммерческих контактах с Византией. Христианское влияние в Киеве около 955 года было достаточно сильным, чтобы оказать влияние на Ольгу и вынудить ее принять крещение еще до отъезда в Константинополь. Константин Порфирогенет, в книге церемоний подробно описавший прием, оказанный Ольге в Константинополе, ни слова не говорит о ее крещении в этом городе. Есть также расхождение между датами, приведенными в источниках. Хроники Нестора и Иакова, панегириста святого Владимира, относят крещение Ольги к 955 году, то есть за два года до ее визита в Константинополь.
Вместе с тем старая русская традиция, воплотившаяся в Первоначальной летописи и панегирике Иакова и подтвержденная византийским хронистом Кедрином, содержит информацию о крещении Ольги в Константинополе. Сторонники киевской теории отвергают эту традицию и относят на счет греческого тщеславия и предубеждения.
Эти утверждения достаточно правдоподобны, но только следует заметить, что антиримская предвзятость была на Руси в XII веке не такой сильной, как считается. Во всяком случае, она была не настолько сильной, чтобы повлиять на анонимного автора анналов. Еще меньше антагонизма между западом и востоком было в Киеве в X веке. Даже скандинавы были впечатлены восточной формой христианства и красотой церемоний. Это серьезное дело – отбрасывание национальной традиции, и в этом случае – той, что подтверждена современным западным докладом, найденным в продолжении хроник Регино, и сообщением германского посла в Киеве Адальберта или одного из его ближайших друзей. Должно быть, Адальберт получил сведения из традиции X века в Киеве.
Что касается молчания Константина об этом событии, следует отметить, что император описывал только церемонии, которые периодически повторялись, – к примеру, прием, оказанный русскому правителю, и пиршество, устроенное в его честь, а не исключительные события, вроде крещения иностранной княгини. Поскольку Русь присоединилась к византийскому христианскому сообществу, ни один византиец не мог считать привычным и повторяющимся крещение христианского князя в Константинополе.
Можно сделать вывод, что Ольга была крещена в 957 году в Константинополе. Относительно более позднего периода хронология русских хроник ненадежна. Но Константин был свидетелем события, и его датировка представляется надежной. В любом случае ее путешествие в Константинополь и принятие имени правящей императрицы Елены означает, что ее обращение – работа византийских миссионеров, которые управляли церковью Святого Илии в Киеве. Священник, сопровождавший княгиню в путешествии, вероятно, был грек.
Этот инцидент проливает необычный свет на удивительное деяние Ольги – отправку посольства к Оттону после крещения, в 959 году. За это ручается человек, который возглавлял германское посольство в Константинополь в продолжении хроник Регино – Адальберт. Послы Ольги были неудачливы в своей миссии. Им сначала пришлось ждать возвращения Оттона, тогда участвовавшего в экспедиции против славян на Эльбе. А когда германский король пошел навстречу желаниям Ольги, подобрав человека, который был посвящен в епископский сан и отправлен в Киев, – Либуция из Майнца, будущий апостол умер вскоре после посвящения. Только осенью 961 года была найдена замена, и епископ Адальберт отбыл в Киев.
Этот контакт с Германией был, очевидно, призван смягчить критику со стороны скандинавских языческих элементов в отношении дружественных отношений княгини Ольги с Византией. Ее обостряло то, что последнюю экспедицию против Византии в 941 году возглавлял супруг Ольги. Однако скандинавов на Руси постоянно информировали о событиях в Германии их соплеменники в Швеции, которые поддерживали постоянный контакт с землями, находившимися под властью Оттона. Контакт между шведами и скандинавами на Руси был постоянным – это установленный факт. Поскольку Ольга, возможно, прибыла с севера и жила попеременно в Киеве и Новгороде, она, должно быть, поддерживала более прочный контакт со скандинавами, чем любой другой русский правитель.
Затем германский король прославил свое имя сокрушительным разгромом мадьяр при Лехфельде, что не могло не понравиться северянам. Слухи об этом событии, вероятно, достигли и Руси, где мадьяры были известны и старшее поколение еще помнило их набеги на юг нового Русского государства.
В то же самое время Оттон, вероятнее всего, тоже был хорошо информирован о событиях на Руси. Мы уже видели, как внимательно он следил за событиями на Балтийском море и насколько частыми были его контакты с Данией. В своем желании держать славян на балтийском побережье, от датской границы до устья Одера, под своим контролем он, должно быть, не упускал из виду и другие части Балтийского моря. Он наверняка был доволен, видя, как жители Швеции сосредоточились на политических и торговых авантюрах на Волге и Днепре, что не оставляло им времени на подрывную деятельность среди славянских племен, которые Оттон желал покорить. Он стремился во что бы то ни стало расширить свою империю на славянские земли, и, вполне возможно, русская инициатива повлияла на конечные планы Оттона. Посольство Ольги дало Оттону I понять, что его восточные планы ближе к реализации, чем это казалось некоторым его советникам-скептикам.
Но намерения Оттона и планы Ольги потерпели неудачу с самого начала. Задержка в отправке миссионеров расстроила весь проект. Возможно, еще до того, как епископ Адальберт успел добраться до Киева, Ольга была вынуждена передать власть своему сыну Святославу и удалиться в Вышгород, где надеялась провести остаток дней в мире и молитвах. Святослав, первый скандинавский принц на русском троне, носивший славянское имя, – свидетельство быстрой славянизации скандинавского элемента, – был настоящим викингом, и по характеру, и по манерам. Устояв перед всеми попытками матери навязать ему христианство, Святослав вместе со своей дружиной скандинавских воинов думал только о войне, грабежах и авантюрах и не обращал никакого внимания на ее увещевания. Германский епископ прибыл слишком поздно и, не найдя для себя поля деятельности, покинул Киев, увезя с собой не самые благоприятные впечатления и даже лишившись на обратном пути некоторых спутников. Однако неудача не обескуражила германского короля, и в 968 году, как мы увидим, он назначил того же Адальберта архиепископом Магдебурга и доверил ему важнейшую задачу – привести славянский мир под влияние германской церкви.
Судя по всему, планы Оттона встревожили польского князя, и, хотя Адальберт не пересекал территории князя на пути на Русь – он ехал через Богемию, – Мешко узнал о намерениях Оттона и ощутил опасность для себя и будущей независимости своей страны. Тем не менее он оценил важность христианского фактора в германском завоевании славян на Эльбе и балтийском побережье. Не было никаких причин не использовать тот же фактор против велетов, тем самым лишив германцев опасного оружия, которое могло быть повернуто против него самого и его народа. Мешко пришло в голову, что в его интересах играть роль союзника императора не только в войне, но и в христианизации языческих славянских племен.
Обращение Мешко в христианскую веру было мудрым государственным шагом, но он не просил своих германских союзников прислать ему священнослужителей. Для этого он обратился к своим более дружелюбным соседям, чехам, и получил священников, а также руку дочери Болеслава I Дубравки, ставшей первой польской христианской княгиней.
Союз с чехами существенно укрепил позиции Мешко против Германии. Дружба была вполне реальной, поскольку кавалерия Болеслава помогла полякам сокрушить Вихмана и расширить свои владения в направлении устья Одера. Другим результатом союза было крещение Мешко и обращение Польши. К сожалению, чешский хронист Козьма Пражский, повествуя о деятельности Дубравки в Польше, весьма критичен. В своих хрониках он с негодованием утверждает, что Дубравка имела наглость ввести новую моду среди женщин высшего класса X века. Будучи замужней женщиной, она отказалась от древней традиции закрывать волосы платом, или покровом, и стала носить головные уборы и прически незамужних женщин. Инновация вызвала негодование.
Тем временем юный коллега Козьмы – Титмар, епископ Мерзебурга, вовсе не был шокирован смелыми инновациями Дубравки в моде. Он всячески восхвалял доброту чешской княгини, равно как и ее старания обратить супруга в христианскую веру. Сведения Титмара определенно соответствуют действительности и не оставляют места для сомнений в том, что княгиня принимала активное участие в обращении Мешко и всей Польши, что подтверждает первый польский хронист XII века – Аноним Галл.
Поскольку в Богемии в то время литургия велась на двух языках, можно предположить, что, помимо латинских священников, в Польшу прибыли и те, которые использовали славянский язык. Последние исследования показали, что славянское духовенство проявляло расположение к чешской правящей семье. В Праге, недалеко от кафедрального собора Святого Вита, существовала церковь Святой Девы, ставшая центром славянской литургии римского обряда. Поскольку Дубравка, вероятно, имела к этому какое-то отношение, Козьма, не одобрявший славянскую литургию, был так строг, когда в XII веке писал о ней. Таким образом, благодаря чехам и Дубравке Польша снова оказалась в сфере старой греко-славянской культуры, основанной братьями Константином-Кириллом и Мефодием.
Принятие христианства поляками при посредничестве чехов не могло вызвать возражения со стороны германцев, потому что Болеслав I, как и Мешко, был другом императора и союзником империи, однако его страна некоторым образом составляла часть германской федерации и в качестве таковой должна была платить дань. В 950 году Оттон заставил его отказаться от пассивного отношения к империи и вернуться к политике, проводимой его братом Венцеславом и им самим в первые годы правления. Болеслав I остался верным императору, хотя и не без попыток обернуть ситуацию к собственной выгоде и на благо своей страны. Он отправился вместе с Оттоном в экспедицию против мадьяр и командовал тысячей лучших воинов в знаменитой битве при Лехфельде (955). Неожиданно именно на него пришелся первый удар мадьяр с тыла, где чехи, согласно Видукинду, охраняли припасы армии. После разгрома мадьяр Болеслав, судя по всему, продолжил боевые действия самостоятельно и в конце концов изгнал мадьяр из Моравии, которую они занимала после краха Моравской империи. Развивая успех, он продолжил наступление на северо-восток и юго-восток и сумел присоединить к Богемии не только большую часть современной Словакии за рекой Ваг, но также регионы в верховьях Вислы, включая Краков. Даже славянские племена Силезии были вынуждены признать его власть. Таким образом, Болеслав стал истинным основателем Богемского государства, третьей славянской империи, возникшей в X веке в Центральной и Восточной Европе, бок о бок с Польшей и Киевской Русью.


