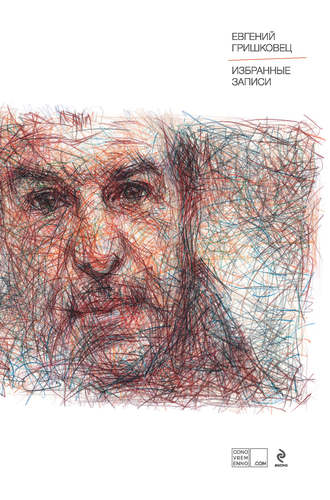
Евгений Гришковец
Избранные записи
18 октября
Вчера долго разговаривал по телефону со своим товарищем – кстати, он испытывает весьма сильные потрясения, связанные с кризисом… В общем, мы решили, что кризис не так уж плох. Во всяком случае, он вернёт большому числу людей чувство реальности. Это я про тех, кто потерял такое чувство и почувствовал себя если не небожителем, то кумом королю. Они жили так, как жить нельзя. Ну нельзя! А ещё мой товарищ сказал: «Может быть, теперь не так много будут вбухивать денег в кино. Может быть, приостановится это безумие. Ведь все кому не лень стали кинопроизводителями».
Может быть. Не знаю. Но то, что ощущаю очень остро, – это практически полное отсутствие контекста, хотя сам являюсь частью этого контекста. Я имею в виду культурный контекст. Если в театре ещё наблюдаются прорывы, если в литературе ещё можно на что-то ориентироваться и опереться, хоть с большим трудом, но можно, то в кино совсем беда. А контекст необходим. Контекст сам по себе определяет уровень, ниже которого если и можно – стыдно опускаться. А когда нет контекста, не стыдно ничего.
Поясню. В Великобритании и Америке существует невероятно высокий музыкальный уровень. По этой причине практически каждая группа чуть ли не любого колледжа демонстрирует такой саунд и такой драйв, какой труднодостижим для наших самых прославленных рок-н-рольщиков. Я часто смотрю сейчас отечественные фильмы шестидесятых-семидесятых годов. Многие помню ещё с детства, помню, как они мне не нравились. Многие раздражали. Да и сейчас вижу: так себе кино. Но это кино! В большинстве этих фильмов есть киноязык, есть стиль, видна работа. И очень хорошо виден некий средний уровень. А сейчас этого уровня нет. Пожилые мэтры на контекст не влияют. Они либо находятся в полувменяемом состоянии, либо исходят желчью по поводу сегодняшнего состояния культуры, либо создают произведения для узкого круга ортодоксальных поклонников и некоего круга специалистов. Есть среди них достойные люди, которые преподают студентам и давно уже не выходят на съёмочную площадку. Ну и ещё всё просвещённое киносообщество ждёт завершения многолетнего труда любимого и прекрасного Германа-старшего. Ждёт с надеждой, сомнениями и раздражением: мол, сколько можно ждать. Но даже если это будет подлинный шедевр, он не может составить контекста. И в хорошем же смысле скромные работы Хлебникова, Попогребского и некоторых других только и дают возможность сказать, что не всё потеряно. Но на самом деле состояние плачевно.
А главное – совершенно не чувствуется поступков. Наоборот, чувствуется их отсутствие. Для произведения искусства поступок художника – часто самое главное. И в этом смысле фильм «Пыль», сделанный на карманные деньги, – гораздо больший поступок, чем вся жизнедеятельность Тимура Бекмамбетова, наибольшие достижения которого приходятся на начало творческого пути, когда он снимал замечательную рекламу.
На днях пересмотрел в очередной раз фильм «Бег» Алова и Наумова. Очень рекомендовал бы тем, кто гордится слезами, выжатыми из них фильмом «Адмирал», посмотреть «Бег». Вот где поступок! В голове не укладывается, как можно было снять такое кино тогда. Я даже не буду говорить о художественных достоинствах фильма – у него сплошные достоинства. Но как им тогда удалось в такой тональности сказать о трагедии белого движения?! Какое у всего этого обаяние. Какая любовь! Какое чувство Родины! Да и патриотизм, в конце концов. Поклонники «Адмирала», не сочтите за труд, прочтите «Белую гвардию» Булгакова – или посмотрите «Дни Турбиных». Да даже в фильме «Адъютант его превосходительства», при всей его идеологической заданности, гораздо больше благородства и аристократизма.
Не надо гордиться своими слезами во время просмотра таких кинофильмов, как «Адмирал». Ох, не надо! Эти слёзы так же легковесны, как смех, вызванный телевизионным юмором. Лёгкость, с которой сейчас извлекаются смех и слёзы, поражает.
И ведь всё так стремительно меняется. Если полтора года назад я гневался и даже рассуждал о пошлости и бессмысленности Петросяна, то сейчас он вспоминается как что-то чуть ли не милое и ностальгическое. Его место заняло такое!.. Если несколько лет назад мы думали, что Сердючка – это всерьёз и надолго, то сейчас она/он – далёкое воспоминание. Если Ксения Собчак ещё совсем недавно была образцом беспредельной наглости и пошлости, то теперь она выступает чуть ли не экспертом по вопросам культуры. Во всяком случае, её мнение кем-то востребовано. Если П. Листерман издаёт книгу, и кто-то её покупает, и на эту книгу расходуется бумага, а для того чтобы сделать эту бумагу, рубят деревья… Если Егор Кончаловский продолжает снимать кино, и кто-то потом покупает билеты в кинотеатр… Этот ряд бесконечен. Думаете, мне не больно видеть людей, которых я считаю своими коллегами и даже друзьями и которые вдруг начинают вести отчаянно пошлые программы на НТВ, и в этих программах показываются в обнимку именно с теми образцами пошлости, с которыми ещё совсем недавно пытались бороться?..
Не думайте, я не пытаюсь сгустить краски. Я далёк от кризисного и отчаянного мировосприятия. Просто иногда накатывает.
Хочу сказать тем, кто написал: мол, пусть снимают, пусть делают, вы не лезьте, не критикуйте, не навязывайте никому своего мнения, короче, помалкивайте, мол, когда-нибудь количество перерастёт в качество. Простите, не могу. Полагаю, что заработал право не только иметь своё мнение, не только его высказывать, но и на нём настаивать. И из того количества, которое мы имеем, никакого качества не возникнет. Не может из этого потока выкристаллизоваться что-то настоящее.
Но и сердиться на всё это нельзя, я понимаю. Нельзя начать делать что-то в пику и вопреки тому, что происходит. Ничего не получится. То, что делается вопреки, вырастает из того же корня, что и то, вопреки чему это делается. Настоящее появляется из чистого замысла.
24 октября
Екатеринбург в очередной раз меня поразил. Год не был в городе, а там такого за это время понастроили! Достроить, правда, не успели – по-прежнему неуютно, как в квартире, в которой приходится жить и одновременно делать ремонт, – но размах замыслов поражает. И ещё очень порадовал состав пассажиров, когда летели в Екатеринбург и возвращались в Москву. Всё какие-то нестарые, современные люди, для которых этот маршрут явно привычный, много иностранцев, которые тоже, видно, летают по нему часто и в основном вполне сносно, а то и бегло говорят по-русски. То есть наполнение самолёта гораздо более опрятное, деловое и современное, чем рейсы на Ганновер, Дюссельдорф, Тель-Авив или Америку в целом. (Представляю, какие будут отклики из-за пределов страны.) Разговоров про кризис везде много, не только в самолёте, но и в Екатеринбурге, но уже слышал хорошие анекдоты. А если есть хорошие анекдоты на тему кризиса, значит, точно переживём.
6 ноября
Сегодня водил детей на «Мадагаскар 2». Все остались довольны. Прежде всего друг другом, ну и мультфильмом, конечно. Младшему, Саше, больше всего понравилась акула, которая появляется на экране на несколько секунд. То есть каждый нашёл своё. Я пил джин-тоник, дети ели попкорн. Лучшего времяпрепровождения не придумать.
8 ноября
На днях посмотрели с дочерью дома фильм японского аниматора Макото Синкая «5 сантиметров в секунду». Пожалуй, ничего подобного прежде не видел, это шедевр. Три новеллы о юношеской любви. Причём одна может разорвать сердце чувствительного мужчины, а другая то же самое может сделать с чувствительной женщиной. Это высокохудожественно, вас накрывает эта картина и захватывает с первых кадров так, будто вы сели в автомобиль, а через три секунды уже мчитесь со скоростью 200 км в час. Мультфильм нарисован так, что практически каждый кадр можно напечатать в виде плаката. Очень рекомендую.
Кстати, в комментариях я встретил разные высказывания о втором «Мадагаскаре». Так вот, я не хвалил мультфильм и не рекомендовал его к просмотру. Я хотел только сказать, что мы с детьми остались довольны этим походом. Чувствуете разницу?
А ещё вчера, практически ночью, посмотрели всем семейством (правда, в ужасном качестве, но терпения не хватило ждать, когда появится в нормальном виде) новый шедевр Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утёсе». Есть вариант перевода названия «Поньо с утёса». Это очень миядзаковский фильм, переходящий из вполне логичных, хоть и фантастических событий в какой-то сон. Впервые у него главный герой – маленький мальчик лет пяти. Как точно он его создал! Вообще эта картина – миядзаковский вариант «Русалочки», но только Русалочке тоже лет пять. Совсем нет врагов и всё наполнено счастьем. Вот что нужно смотреть, когда несколько поколений собираются у экрана.
Суббота заканчивается. Сегодня был удивительно солнечный день, и небо было, как в японских мультфильмах.
13 ноября
Сегодня первый спектакль в Париже. Второй день репетирую с переводчиком. Точнее, мы с ним медленно, в который раз, поскольку исполняли этот спектакль уже много, повторяем текст, и я потихоньку начинаю текст ненавидеть.
Сегодня солнышко, но прохладно. Париж зелёно-жёлтый. Здесь много вечнозелёных растений, в частности, плющей, которые цепляются маленькими острыми лапками, похожими на лапки многоножек, за стены и камни. Париж, как всегда, очаровательно замусорен, испачкан собачьими какашками и при этом неизменно величествен, аристократичен и вальяжен.
А сначала Париж мне совсем не понравился. Так случилось, что мне уже довелось поиграть в Лондоне, Берлине, Хельсинки… да где только не довелось! И даже в некоторых французских городах типа Авиньона и Гренобля. Но с Парижем всё не складывалось. Я очень ждал встречи с ним и предвкушал прекрасное впечатление, а он с первого раза не понравился, причём сильно. Приехал я в Париж в августе, была жуткая жара, и весь город был заполнен туристами в шортах. Я вообще этот вид одежды в городском пейзаже не люблю, а тут было невероятное число безумных людей с фотоаппаратами и в шортах. Короче, я тогда ничего не понял…
В следующий раз я приехал в Париж больше чем через год, для участия в осеннем фестивале, и играл восемь спектаклей в театре «Бастий». Только не подумайте, не в «Опера-Бастий», а в небольшом театрике недалеко от площади Бастилии. Меня поселили тогда не в гостинице, а в меблированной квартирке на улице Промонтье. Стояла ужасная погода, конец ноября. Перед серией спектаклей нужно было довольно долго репетировать. В общем, я провёл тогда в Париже три недели и каждый день ходил на работу одним и тем же маршрутом. Погода всё время стояла беспросветная. Через неделю моей жизни в доме, где была квартира, я знал всех, и все знали меня. Я знал всех собак, всех кошек, всех тётушек, которые с этими собаками прогуливались. Знал, во сколько приходит пьяненький сосед, знал, до которого часа они будут ругаться за стенкой с женой. Знал, что на лестничном пролёте между первым и вторым этажом громко скрипят две ступени (там один лестничный пролёт был деревянный).
А ещё на улице, по которой я ходил в театр и по которой возвращался, была овощная лавка, и её держал толстый улыбчивый марокканец. Я у него регулярно покупал маленькую дыньку, пару бананов и одно большое яблоко. День на пятый, когда я зашёл к нему в лавчонку, он сразу протянул мне пакет с моим привычным набором.
Это были не очень весёлые гастроли, можно даже сказать, было скучно. Но я тогда вдруг понял бездонность Парижа. Ощутив жизнь одной улицы, я прочувствовал наполненность жизни всех улиц Парижа. А ещё понял, что могу здесь жить. Пусть не всегда, но довольно долго. А так я могу сказать всего про несколько городов.
29 ноября
Вечером прилетел из Берлина в Калининград. 50 минут полёта – и вдыхаешь прибалтийский воздух. Много чего накопилось рассказать. Последний день в Париже был удивительно насыщенным, и в нём было много открытий. Но об этом потом. После того как в последний раз здесь писал, успел побывать в Вене, Цюрихе и Берлине, столицах трёх немецкоязычных стран, где состоялись презентации недавно вышедшей там книги «Рубашка».
Про книгу тоже скажу позже. Сейчас хочу рассказать про моего давнего товарища и коллегу Штефана Шмидтке, с которым знаком и работаю уже восемь лет. Штефан Шмидтке – природный немец, родившийся недалеко от Дрездена. В своё время он учился театральному искусству в Москве, а потом много и долго работал и работает в разных культурных структурах, таких как фестивали, театральные и прочие. Когда я играю в Германии, именно он меня переводит. Штефан переводил все мои пьесы, именно с его акцентом в романе «Рубашка» говорит француз Паскаль.
Книга «Рубашка» на немецком языке вышла в швейцарском издательстве, поэтому заезд в Цюрих был делом обязательным. Я заранее предупреждал организаторов, что швейцарской визы у меня нет и времени на её получение тоже. Но швейцарские организаторы уверяли меня, что однодневный визит в Цюрих с обычной шенгенской визой вполне возможен, и многие так делают. Я сомневался, много раз переспрашивал, но меня убедили.
Наутро после выступления в Вене мы со Штефаном, который переводил мне на встрече с читателями, поехали в аэропорт. Штефан выразил сомнение в том, что я смогу без визы лететь в Цюрих, но я показал ему письма из Швейцарии, в которых меня заверяли, что всё в порядке… Короче, пограничники меня не пропустили. Честно говоря, я был к этому готов, но нужно было срочно принимать решение. Вечером, в 8 часов швейцарская столичная публика, раскупившая билеты, ждала моего выступления. Мы стояли в аэропорту Вены, и было несколько вопросов: куда, собственно, податься, что со всем этим делать и как удержаться от желания немедленно позвонить организаторам и сказать: «Ну я же говорил, мать вашу!»
И тогда стал действовать Штефан. Всё-таки немцы – особенные люди… Он очень долго разговаривал с австрийским пограничником, потом с другим, потом с самым главным пограничником. Было ясно, что ему сказали, что в Швейцарию без визы российскому гражданину попасть невозможно. Услышав такой неоднократный и внятный ответ, Штефан раздобыл телефон швейцарского посольства в Вене. В это время наш самолёт улетел. Я категорически не верил, что есть смысл предпринимать какие бы то ни было действия, но не дёргался и наблюдал. А Штефан позвонил в посольство. Я немного понимаю немецкий… Штефан очень спокойно, очень дружелюбно в течение сорока минут раз семь-восемь объяснил швейцарцам суть проблемы. По всей видимости, ему пришлось переговорить со всеми работниками посольства. В итоге нас попросили подождать и пообещали перезвонить. Чего было ждать, непонятно. Но Штефан и не стал ждать. Он пошёл и забронировал места на все возможные рейсы до Цюриха. Как только он это сделал, из посольства перезвонили и сказали, что визу мне дадут в связи с исключительностью ситуации, и дадут очень быстро, но для этого у меня должна быть фотография и медицинская страховка. Как ни странно, медицинская страховка у меня была, но фотографии не было. Штефан умчался, и через 15 минут я стоял перед автоматом, в котором можно было сфотографироваться. У нас была надежда, что мы успеем на самолёт, который улетал так, что мы бы прилетели в Цюрих в начале шестого. В Австрии автоматы очень долго инструктируют вас о том, как следует фотографироваться, и ускорить этот процесс невозможно. Автомат выдавал инструкции по всем пунктам, а их было шесть. Слушая, как надо фотографировать детей, мы уже танцевали рядом с автоматом. Полные надежд, а также с фотографией и медицинским полисом, через пробки и весь город, мы приехали к швейцарскому посольству. Но минут за пять до нашего появления у швейцарцев начался обед, и нам пришлось час ожидать окончания приёма пищи работниками посольства. Наконец мы ввалились в консульский отдел, где, кроме нас, посетителей не было, и сообщили, что это мы, те самые, из аэропорта, которые звонили, те самые, у кого вышла книжка и кому обязательно нужно в Цюрих. Нам спокойно ответили, что нас тут ждали, взяли мои документы, дали заполнить анкету и куда-то удалились. Их не было около часа. За это время самолёт уже улетел.
Примерно каждые полчаса у меня возникало сильнейшее желание плюнуть, сказать, что я не обязан всем этим заниматься, уехать в какую-нибудь гостиницу и сказать организаторам, чтобы они сами расхлёбывали то, что заварили. Но рядом был Штефан, который обязан был делать то, что делал, ещё меньше, чем я. Он был просто мой переводчик, и не более того… Но он был спокоен и нацелен на победу.
Примерно через час после того, как у нас взяли документы, швейцарцы сообщили, что мой страховой полис не годится. Я был удивлён, потому что он был оформлен, собственно, для всего мира. Ну, то есть для пространства за пределами России. Но швейцарцы сказали, что нужен полис, рассчитанный именно на Швейцарию, а остальной мир – это остальной мир. При этом они вполне сочувственно сообщили, что с 1 декабря все эти проблемы закончатся, и можно будет въезжать в страну, имея такую визу, какая у меня, и с таким полисом, как у меня. Но до 1 декабря читатели в Цюрихе ждать бы не стали.
В общем, в тот день с таким полисом, как у меня, ехать в Швейцарию было нельзя. И это была очередная непреодолимая проблема, которую Штефан тут же начал решать. Через полчаса выяснилось, что в Австрии меня застраховать невозможно, потому что я не гражданин и не проживаю в этой стране. Потом Штефан выяснил, что меня можно застраховать в Швейцарии, но проблема была в том, что я в этот момент находился в Австрии. В это трудно поверить, но меня-таки застраховали в Швейцарии в то время, когда я сидел в Вене, и по факсу передали страховой полис. Так мною была получена швейцарская виза ровно на одни сутки.
Мы едва успели на тот самолёт, который нам давал шанс попасть на встречу с читателями, правда, самолёт на 20 минут задержался (не верьте в швейцарскую пунктуальность). Лететь недолго, всего час десять. Мы приземлились в Цюрихе за 50 минут до начала мероприятия. На паспортном контроле швейцарский пограничник очень долго изучал визу и даже показывал её коллегам: на визе было указано время выдачи. Он, должно быть, впервые видел визу, которую выдали два с половиной часа назад.
Но после паспортного контроля я обнаружил, что забыл в самолёте сумку, а в ней были необходимые вещи для грядущего мероприятия. Я сказал об этом Штефану, он улыбнулся и в первый раз за день выматерился.
Не понимаю, каким образом ему удалось ускорить спящих на ходу швейцарцев, но сумку мне через полчаса отдали. И даже формальности, с этим связанные, прошли быстро. Швейцарцы сами удивлялись своей расторопности. От аэропорта до города недалеко, и мы опоздали всего на 11 минут. Штефан два часа переводил вопросы читателей, мои ответы и все мои высказывания. Переводил остроумно, быстро и точно. А потом мы не помнили, как добрались до подушек.
Это большое наслаждение, редкость и счастье – наблюдать такого человека, знать его и дружить… Человека, который не сдаётся. Штефан Шмидтке, чёрт возьми, не сдавался. Зачем ему это было нужно – не понимаю. Я в течение дня сдался несколько раз, а он нет. Крепкий орешек.
3 декабря
Расскажу про последний в этом году день в Париже.
Двадцать третьего отыграл последний гастрольный спектакль. Был приятный и плотный аншлаг, спектакль прошёл как рок-н-ролл. Потом мы отметили окончание гастролей. Я устал, был счастлив – и напился, потому что до этого в Париже было как у Высоцкого: «…мимо носа носят чачу, мимо рота алычу…» А двадцать четвёртого выдался свободный день, и в первый раз за две недели меня разбудило утром яркое солнце. Я малодушно хотел поваляться, но мне позвонил старинный знакомый, человек не очень понятного возраста, который давным-давно живёт в Париже, которого многие русские в Париже знают и с особой нежностью называют Ароныч… и который давным-давно хотел устроить мне экскурсию по кладбищу Пер-Лашез. Я немножко поныл в трубку, но собрал волю в кулак и решил, что по-быстренькому пройдусь, а потом поваляюсь в постели. Не очень мне хотелось на кладбище в единственный свободный день. Но было солнце, а перед этим две недели, проведённые в театре почти безвылазно. Короче, я пошёл.
Уверен, многие были на этом кладбище, ничего особенно нового я не расскажу. Есть книги про это кладбище, есть путеводители, и это вполне туристическое место. Но с Аронычем всё вышло особенным образом. Надо сказать, что в Ароныче содержатся какой-то особый ритм и удивительный способ восприятия жизни. В нём нет и тени той эмигрантской тоски, показного веселья или терапевтического желания говорить об ужасах прошлой жизни в России. Он – человек, сросшийся с Парижем. Кстати говоря, он уже давно работает в некоей социальной службе и занимается тем, что ездит по французским тюрьмам, встречается с заключёнными, выясняет их проблемы и пытается решать. Сам он уже многие годы живёт прямо у кладбища и из своего окна видит только могилы, склепы и трубу кладбищенского крематория.
Самое главное в этой прогулке было то, что у Ароныча не было никакой программы и специального маршрута с некими обязательными точками, хотя кладбище: он знает досконально. Проще говоря, он знает всех на этом кладбище, и живых сотрудников, и покойных обитателей. Первым делом он показал не так давно поставленный памятник русским бойцам французского Сопротивления времён Второй мировой. Памятник представляет собой симпатичного парня с двумя винтовками на плече, в широких брюках, заправленных в короткие сапоги-ботинки, и с лицом, очень похожим на Гагарина. А следом он повёл меня в колумбарий… Это такое место, где в специальных ячейках хранятся урны с прахом. Оказалось, там место вечного упокоения знаменитого батьки Махно. Я не большой знаток истории, и для меня присутствие Нестора Ивановича в Париже было удивительным.
Совсем недалеко от него покоится Айседора Дункан с детьми. Всё-таки странно: и дети, и она погибли от автомобиля. Причём не под колёсами, а именно самым роковым образом… Только мы это осмотрели, Ароныч достал из кармана бутылочку, сообщил, что покупает у одного деда-фермера домашний кальвадос, минимум 56°, и что без этого напитка по кладбищу ходить неправильно и бессмысленно. С собой у него был набор маленьких медных рюмочек. А ещё он скручивал сигаретки с маслянистым трубочным табаком и наполнял кладбищенский воздух запахом чернослива и дальних странствий. Мы много беседовали. Он оказался знатоком истории авиации, а я, соответственно, флота. Мы бродили, беседовали и у каких-то значимых могил пропускали по глотку жёлтого пахучего кальвадоса, который смело можно было назвать хорошим самогоном.
Надо сказать, что на кладбище народу было немного, но добрая половина – русские, и меня активно узнавали. Одна девушка радостно сказала: «Как приятно вас здесь увидеть!» Наверное, мои брови вздёрнулись. Я спросил: «Почему именно здесь так приятно?» Она смутилась, сказала, что это ей вообще приятно, но она уже давно живёт в Париже и немного «позабывает родной язык». Ароныч ей тут же налил кальвадоса, и её французскому парню тоже. (У Ароныча оказалось с собой шесть рюмочек.) Французский парень ничего не понимал и насупился, но от кальвадоса не отказался. А потом мы пошли в разные стороны. Ароныч посмеивался, слушая удаляющееся щебетание барышни и сообщив мне, что она пытается ему объяснить, с кем только что повстречалась. Мне тоже это было забавно, потому что мы были аккурат рядом с могилой Виктора Гюго. И вообще там писательское окружение довольно плотное.
А потом мы пришли к могиле Оскара Уайльда. Странный памятник. Хотя, надо отдать должное Оскару, не без странностей был человек.
Весь постамент его памятника и часть фигуры зацелованы. При нас пришла довольно взрослая мужская пара, между собой они говорили, думаю, по-датски (хотя могу ошибиться). Один из них извлёк из кармана губную помаду, накрасил губы и оставил свой отпечаток. Ароныч сказал, что эти следы периодически стирают, но они быстро появляются вновь. Больше всего его порадовала надпись, оставленная однажды – на русском языке и тоже губной помадой «Нина + Вова = Любовь». На памятнике всегда лежат синие розы, и причинное место монументу всё время обламывают. Ароныч сообщил, что его несколько раз восстанавливали и даже приставляли дежурного, но ничего не помогает – слишком велика любовь людей к творчеству чудесного писателя.
У могилы Модильяни мы встретили очень весёлых русских дизайнеров, которые приехали на какую-то выставку, а сами проживают в Берлине. Они получили от Ароныча свою порцию в виде короткой истории и кальвадоса, и мы двинулись дальше.
Очень мне понравилось надгробие мсье Пармантье. Это скромное надгробие с сельскохозяйственными зарисовками, выполненными на мраморе. У него на могиле всегда лежат клубни картошки, а не цветы. Их приносят благодарные французы. Дело в том, что этот господин когда-то привёз картошку во Францию. Но французские крестьяне не хотели употреблять её в пищу и выращивать. Тогда он договорился с королевским агрономом и огородником о том, чтобы картошку высадили в самом главном огороде страны и приставили охрану, а в случае попыток воровства солдатам было приказано не препятствовать. Крестьяне, разумеется, воровали тщательно охраняемую культуру, так и пошло по Франции распространение картофеля.
Мы задержались у надгробия в виде лежащей медной фигуры. Могила принадлежит некоему еврейскому юноше, который писал при жизни в газеты и журналы статьи и рассказы под псевдонимом Виктор Нуар, то есть Виктор Чёрный. Он погиб в возрасте двадцати двух лет. Вышла какая-то запутанная романтическая история, суть которой я из-за кальвадоса запомнил нечётко. Он согласился быть секундантом в одной благородной дуэли, но сам пал жертвой, был сражён пулей наповал. Похоронили его, памятник поставили… А потом прошёл слух, что если женщина сядет верхом на металлическое изображение бедного юноши, причём сядет на определённое место и слегка потрётся об него, то к ней может вернуться утраченная или прежде неведомая чувственность, или она может исцелиться от бесплодия, или наконец-то выйти замуж. Место натёрто до блеска. Ароныч заверил, что это не работники кладбища натирают… (Странное дело, но у Виктора натёрты до блеска также нос и один ботинок. Комментировать не буду.)
Лафонтен и Мольер лежат рядышком, и умерли они задолго до того, как было разбито кладбище Пер-Лашез. Надо сказать, что останки Лафонтена весьма условны. Кто-то там лежит, но не факт, что Лафонтен. А вот Мольер – точно Мольер. Оба были похоронены в братских могилах, но поскольку Мольер был артистом, а стало быть, презренным человеком, его закопали первым и глубже остальных. Поэтому при эксгумации смогли точно установить его персону. А перенесли их на кладбище Пер-Лашез из-за того, что оно было новым и непрестижным. Тогда мэр Парижа распорядился поместить их прах в качестве селебритис, чем подстегнул моду и усилил престиж Пер-Лашез.
Мы бродили долго. Вечерело. В бутылке осталось буквально по последней капле. Я хотел посетить могилу Джима Моррисона, зная, что он тоже там. Но Ароныч не то чтобы сопротивлялся, но явно оттягивал этот момент. Я это почувствовал и задал прямой вопрос. И тогда Ароныч поведал мне удивительную историю. Оказалось, что многие годы он дружил с человеком, который работал на этом кладбище в должности… культурного атташе. Ароныч с ним дружит давно и даже какое-то время работал его помощником, вот откуда его познания и глубина проникновения в вопрос.
Он рассказал, что после того как мэрия Парижа опрометчиво похоронила здесь Джима Моррисона в семьдесят первом году, Пер-Лашез из респектабельного последнего приюта многих, многих и многих превратилось в чёрт знает что. Особенно шумно на кладбище в годовщину смерти. Это сейчас, сказал Ароныч, поутихло, а раньше-то постоянно из близлежащих к могиле Моррисона склепов выносили кучи бутылок, шприцов и презервативов. Здесь пришлось установить даже колючую проволоку на стенах, потому что его поклонникам важнее всего было проникнуть на кладбище ночью и проделать там то, что любил сам Джим. Никакого сладу с этим не было. А самое обидное для властей Парижа было то, что они похоронили Моррисона за свой счёт. Ароныч показывал мне копию полицейского свидетельства о смерти и копию счёта за похороны. Поразительно, Джиму Моррисону нашли маленький кусочек земли между величественными могилами и склепами и похоронили за муниципальные пятьсот с небольшим франков (то есть чуть больше, чем за сто долларов). Его могила заброшенная, неухоженная, и на ней чаще оставляют сигареты, чем цветы.
А ещё Ароныч рассказал, как однажды утром ему позвонил друг, тот самый атташе, и попросил помочь, поскольку Ароныч свободно говорит по-английски. Ароныч никогда не был поклонником «Doors» и Джима Моррисона и до того дня не знал, кто его отец. Он не смог точно вспомнить, какой это был год. Вторая половина восьмидесятых. В общем, Ароныч в тот день работал переводчиком отца Джима Моррисона, который впервые приехал на могилу сына. Отца можно понять, всё-таки сын в песне «The End» поёт: «Father, I want to kill you». А отец Джима Моррисона – настоящий адмирал, заслуженный и достойный человек. Ароныч сказал, что увидел печального, тихого, аристократического вида человека, который молча и грустно бродил по кладбищу, а потом долго стоял у могилы сына. И вот, выждав, как ему показалось, подходящий момент, атташе обратился через Ароныча к Моррисону-старшему со следующим предложением. Он сказал: «Уважаемый господин Моррисон, мэрия Парижа в моём лице делает вам следующее предложение… Не сочтёте ли вы возможным и не будете ли вы столь любезны… Вам это ничего не будет стоить, все расходы возьмёт на себя мэрия Парижа и Франция… Не позволите ли вы перезахоронить вашего сына у него на родине, то есть у вас, в вашем штате? Всю организацию, все хлопоты и формальности мэрия Парижа возьмёт на себя…» Ароныч сказал, что тихий и печальный адмирал даже не дослушал перевод, он изменился в лице, вскинул руки и неожиданно громко выкрикнул: «No way!»
Мы допили остатки кальвадоса у могилы любимого мною ещё с восьмого класса Джима Моррисона, я прокрутил в голове «Riders on the storm». Как раз начал накрапывать дождик, и, исполненный тихого счастья, я расстался с Аронычем, который пешочком побрёл к своему дому, что стоит у кладбищенской стены. Потом я вернулся в гостиницу, чтобы наутро улететь из Парижа – с ощущением умиротворения и воспоминаниями о ещё одной странице, прочитанной мне в этот раз Аронычем об этом великом городе.







