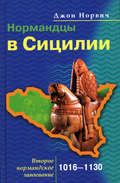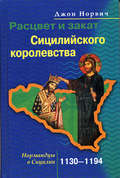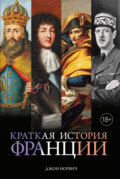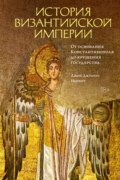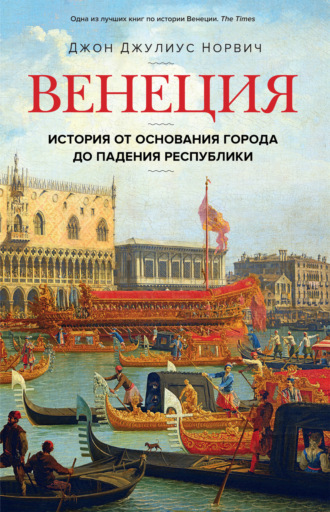
Джон Джулиус Норвич
Венеция. История от основания города до падения республики
В 976 г., когда первоначальную базилику погубил пожар, мощи святого Марка, согласно преданию, исчезли бесследно. В то, что они сгорели, никто не верил; проблема, однако, заключалась в том, что все три человека, которые знали, где в точности хранится реликвия, погибли при пожаре. Когда наконец достроили новое здание, был объявлен трехдневный пост для всех горожан. Дож и патриарх со всеми епископами и священниками лагуны на протяжении этого времени усердно молились о повторном обретении драгоценной реликвии. На третий день (25 июня) их молитвы были услышаны. Посреди торжественной мессы из южного трансепта внезапно донесся оглушительный грохот. Взоры присутствующих обратились туда, и все увидели, что одна из несущих колонн храма рухнула, а под ней открылось отверстие, из которого торчала человеческая рука. Все поняли, что она принадлежит евангелисту; среди всеобщего ликования мощи святого извлекли из тайника и перезахоронили в крипте собора. Там они и оставались до 1836 г., а затем были перенесены под главный алтарь, где находятся и по сей день[73].
Вправду ли освящение третьей, и последней, базилики Святого Марка сопровождалось столь наглядным знамением милости Божьей, или это всего лишь легенда, но само появление этого собора имело огромное значение не только для обитателей Венеции. Ни в одном из городов западного мира – ни в Равенне, ни в Ахене, ни даже в самом Риме – еще не воздвигали настолько величественных строений во славу христианского Бога. Собор Святого Марка стал зримым свидетельством не столько благочестия венецианцев (которые вообще-то не выделялись особой набожностью среди своих соседей), сколько их богатства, масштабов их торговой империи и того особого, еще не знакомого другим городам и странам Европы чувства национальной гордости, которое все чаще побуждало их расходовать личные средства на украшение и прославление своего города. На это наверняка обращали внимание высокопоставленные гости: и император Генрих IV, посетивший Венецию летом 1095 г., и все бесчисленные властители и монархи, на протяжении последующего столетия проезжавшие через город по пути на Восток и обратно. Но прежде чем в Венецию хлынул этот поток гостей, всего за несколько недель до приезда императора, Витале Фальеро умер от чумы. Его похоронили в соборе Святого Марка на Рождество; там, справа от центрального входа, его усыпальница стоит и поныне (это старейший надгробный памятник Венеции, сохранившийся до наших дней). Провести республику через бурные годы конца XI столетия – годы Первого крестового похода – выпало на долю следующему дожу.
7
По следам Крестового похода
(1095–1130)
И как в венецианском Арсенале
Кипит зимой тягучая смола,
Чтоб мазать струги, те, что обветшали,
И все справляют зимние дела:
Тот ладит весла, этот забивает
Щель в кузове, которая текла;
Кто чинит нос, а кто корму клепает;
Кто трудится, чтоб сделать новый струг;
Кто снасти вьет, кто паруса платает, –
Так, силой не огня, но божьих рук,
Кипела подо мной смола густая,
На скосы налипавшая вокруг.
Данте. Божественная комедия. Ад, XXI.7–18[74]
Во вторник 27 ноября 1095 г., когда дож Фальеро лежал на смертном одре, папа Урбан II обратился ко всему западнохристианскому миру с призывом защитить Восток от сарацинской угрозы. Многие откликнулись на этот призыв с большим энтузиазмом. Всего через несколько дней, 1 декабря, граф Раймунд IV Тулузский и множество его вассалов заявили о готовности к походу. Под знамена крестоносцев устремились и аристократы, и простые крестьяне из всех уголков Европы – из Нормандии и Фландрии, Дании, Испании и даже Шотландии. Не стала исключением Италия; папе даже пришлось направить жителям Болоньи письмо, в котором он предостерегал их от излишнего рвения и напоминал, что для участия в походе необходимо разрешение священника, а для женатых мужчин – еще и согласие жены. Правивший дальше к югу Боэмунд, сын Роберта Гвискара, который теперь носил титул князя Тарентского, воспользовался долгожданным случаем собрать собственную армию, пусть и небольшую. Пиза и Генуя, быстро набиравшие влияние на море, тоже стали снаряжать флот – в надежде, что на Востоке перед ними откроются новые перспективы.
Но Венеция медлила. Она и так располагала стабильными рынками на Востоке, особенно в Египте, который стал крупным поставщиком пряностей, поступавших из Индии и с островов южных морей, и центром сбыта европейского леса и металла. Венецианцы были слишком трезвомыслящими и расчетливыми, чтобы поддаться эмоциональному порыву и броситься на защиту христианства; к тому же война вредила торговле, а дружба с арабами и турками-сельджуками (которые за последние четверть века захватили бóльшую часть Анатолии) была необходима для сохранения караванных путей в Центральную Азию. Новый дож Витале Микьель выжидал время, стараясь оценить масштаб кампании и ее шансы на успех, прежде чем ввязаться в нее окончательно и бесповоротно. Серьезные приготовления начались только в 1097 г., когда первая волна крестоносцев уже маршировала через Анатолию. Только под конец лета 1099 г., когда армия франков, с боями прорвавшаяся в Иерусалим, истребила всех местных мусульман и заживо сожгла всех евреев в главной синагоге, из порта Лидо наконец выступил венецианский флот численностью 200 кораблей.
Командовал им сын дожа, Джованни Микьель, а за духовное благополучие экспедиции отвечал Энрико – епископ Кастелло[75] и сын одного из предыдущих дожей, Доменико Контарини. Флот прошел через Адриатику, делая остановки в портах Далмации и принимая на борт дополнительных людей и снаряжение, затем обогнул Пелопоннес и направился к острову Родос, чтобы переждать там зиму. Там, согласно одному свидетельству, венецианцев настигло срочное послание от императора Алексея: тот заклинал Джованни отказаться от дальнейшего участия в Крестовом походе и вернуться домой. Размеры армии крестоносцев повергли Алексея в ужас. Обращаясь к папе за помощью в борьбе с сарацинами, он предполагал, что с Запада прибудут отдельные рыцари или небольшие отряды опытных наемников, которые перейдут под его командование и будут выполнять его приказы. Вместо этого в его владения ворвались алчные и совершенно неуправляемые орды религиозных фанатиков и авантюристов, уничтожавшие все на своем пути как саранча и разрушившие то шаткое равновесие между христианами и мусульманами, от которого тогда зависело само выживание Восточной империи. Более того, крестоносцы нападали не только на сарацин: той же зимой пизанские корабли блокировали имперский порт Латакию, а Боэмунд (который, не теряя времени зря, уже захватил Антиохию и провозгласил себя ее первым князем) одновременно атаковал этот город с суши. В свете давней дружбы между Венецией и Византией и тех преимуществ, которыми венецианцы пользовались по всей Восточной империи, Алексей едва ли ожидал от них такого же вероломства, но сам Крестовый поход глубоко разочаровал его. Если это и был так называемый христианский союз, то византийский император предпочел бы обходиться дальше своими силами. Между тем пизанские пираты потерпели поражение при Латакии и – на свою беду – отступили к Родосу.
Так впервые за всю свою историю венецианцы и пизанцы столкнулись лицом к лицу. Последние, несмотря на недавний разгром, рвались в атаку; первые, давно уже наблюдавшие, как Пиза набирает силу и с каждым годом внушает все больше опасений, не собирались делить богатые левантинские трофеи с дерзкими выскочками. Последовала битва – затяжная и обернувшаяся большими потерями для обеих сторон. Но венецианцы все же одержали верх: захватив двадцать пизанских кораблей и четыре тысячи пленников (почти все из которых вскоре были отпущены на свободу), Джованни Микьель заставил побежденных соперников отказаться от любых дальнейших посягательств – как военных, так и торговых – на Восточное Средиземноморье. Но, как любые клятвы, принесенные под давлением обстоятельств, это обещание вскоре было забыто, а битва у берегов Родоса оказалась лишь первым из множества эпизодов в борьбе Венеции с ее торговыми конкурентами – борьбе, затянувшейся даже не на годы, а на века[76].
О том, с каким настроем Венеция присоединилась к Крестовому походу, лучше всего свидетельствует то, что за первые шесть месяцев формального участия в кампании ее флот не нанес ни единого удара во славу христианства и даже не добрался до Святой земли. Как всегда, Венеция ставила собственные интересы превыше прочих; вот и сейчас, даже после того, как зима сменилась весной, интересы эти потребовали задержаться еще на несколько недель – ради вящего блага республики. Незадолго до отбытия епископ Энрико посетил церковь Сан-Николо ди Лидо (построенную его отцом) и помолился, чтобы Господь послал ему возможность перевезти мощи ее святого покровителя из Миры в Венецию. Город Мира в Ликии (известный также под названием Миры Ликийские), где святой Николай когда-то был епископом, располагался на материке почти в точности напротив Родоса. К тому времени турки-сельджуки разрушили бóльшую часть построек, но церковь над могилой святого все еще стояла – как стоит и сегодня. Венецианцы высадились на побережье, ворвались в церковь и обнаружили там три кипарисовых гроба. В первых двух покоились останки мученика Феодора и дяди святого Николая, а третий оказался пуст. Епископ Энрико приказал допросить служителей мирликийской церкви и даже подвергнуть их пыткам, но несчастные только твердили, что мощей святого Николая в Мире больше нет: несколькими годами ранее их увезли какие-то купцы из Бари. Епископа это не убедило. Пав на колени, он громко взмолился Богу, прося указать потайное хранилище, где сокрыты святые мощи. Поначалу ничего не случилось, и венецианцы собирались покинуть церковь, но тут из дальнего угла повеяло миррой. Там и обнаружилась еще одна усыпальница, в которой – как гласит легенда – лежало нетленное тело Николая; в руке святой сжимал пальмовую ветвь, привезенную из Иерусалима, и та по-прежнему оставалась зеленой и свежей. Торжественно погрузив на корабли останки всех трех святых, венецианцы сочли свою миссию в Ликии завершенной и наконец взяли курс на Палестину.
Захватив Иерусалим в июле 1099 г., предводители крестоносцев выбрали Готфрида Бульонского, герцога Нижней Лотарингии, королем новоиспеченного Иерусалимского королевства. Но Готфрид отказался носить золотой венец в городе, где Христос носил терновый, и вместо королевского титула принял титул защитника Гроба Господня. В середине июня 1100 г. он получил донесение, что в Яффе высадился большой венецианский флот. Поход еще не закончился: значительная часть Палестины оставалась во власти сарацин, а морские ресурсы Готфрида были совсем скудными. Так что он поспешил на побережье приветствовать новоприбывших, но по дороге тяжело заболел – скорее всего, тифом (хотя ходили слухи, что герцог был отравлен на пиру, который устроил в его честь эмир Кесарии – сарацин, признавший себя вассалом Готфрида). Так или иначе, Готфрид едва нашел в себе силы встретиться с венецианцами, после чего вынужденно вернулся в Иерусалим, оставив для переговоров своего кузена, графа Уорнера Грея.
Венецианцы выдвинули свои условия – не сказать что исполненные бескорыстного крестоносного рвения. В обмен на помощь они потребовали для себя свободную торговлю по всему Франкскому государству, церковь и рынок в каждом уже занятом крестоносцами городе, а сверх того – третью часть каждого города, который будет захвачен впоследствии с их участием, и весь город Триполи. Даже несмотря на то, что условия были приняты, венецианцы заявили, что на сей раз проведут в Святой земле всего два месяца, до 15 августа.
Это была жесткая, типично венецианская сделка, и то, как поспешно приняли ее франки, говорило о том, сколь отчаянно они нуждались в поддержке с моря. Решили, что первой совместной целью станет Акра, а следующей – Хайфа, но планы крестоносцев сорвались: сильный северный ветер задержал корабли в порту Яффы, а между тем из Иерусалима пришло известие о смерти Готфрида. Возникла большая проблема. Предводители франков понимали, что нужно ехать в Иерусалим: никто не желал остаться в стороне от неминуемых споров за престолонаследие. Но до отплытия венецианцев оставалось меньше месяца, и не воспользоваться флотом, купленным столь дорогой ценой, было просто немыслимо. Обсудив положение, крестоносцы пришли к компромиссу, решив отложить атаку на Акру и бросить все силы на Хайфу, которая находилась ближе и была не так хорошо укреплена.
Хайфу защищал небольшой египетский гарнизон, но основное сопротивление оказали крестоносцам местные жители. Хайфу населяли преимущественно евреи, которые хорошо помнили, какая судьба постигла их сородичей меньше года тому назад в Иерусалиме, и пытались отстоять свой город любой ценой. Но против венецианских баллист и осадных машин они оказались бессильны и 25 июля – всего через неделю после смерти Готфрида – были вынуждены сдаться. Их опасения полностью оправдались. Спастись удалось немногим: большинство иудеев и мусульман были убиты на месте.
Венецианцы, по всей вероятности, не принимали активного участия в резне. По натуре они были торговцами, а не кровожадными убийцами. Франки же, напротив, не в первый раз истребляли мирное население: такую же резню они учинили не только в Иерусалиме, но и в Галилее. Но все же это был военный союз, и, поскольку Микьель и Контарини со своими людьми присутствовали при захвате Хайфы, настаивать на полной невиновности венецианцев невозможно. Сознавали ли они сами свою вину, мы не знаем; в лаконичных венецианских хрониках ни словом не упоминается обо всех этих зверствах. Нет подтверждений и тому, что венецианцы получили награды, обещанные Греем, хотя не исключено, что они согласились подождать до разрешения политического кризиса. Вскоре после падения Хайфы они отправились домой, увозя с собой не только трофеи и товары из Святой земли, но и святые реликвии, добытые в Мирах Ликийских. По возвращении, тщательно приуроченном ко дню святого Николая, они удостоились торжественной встречи: дож, духовенство и народ приветствовали их как героев, а останки, признанные мощами святого, благоговейно захоронили в церкви Доменико Контарини ди Лидо.
Не было ли в этой церемонии толики фальши? Если да, то неудивительно: на самом деле злосчастные служители церкви в Мирах Ликийских сказали правду. За тринадцать лет до венецианцев их действительно посетили купцы из Апулии, которые забрали мощи святого Николая и с триумфом привезли их в Бари, где немедленно началось строительство базилики, носящей его имя, – ныне это одна из великолепнейших в Италии церквей в романском стиле. Поскольку крипту этого прославленного здания освятил еще в 1089 г. сам папа Урбан II и поскольку за прошедшие годы многие венецианские моряки, побывавшие в Бари, наверняка видели, как растут стены новой церкви, невозможно себе представить, чтобы дож и его советники ничего об этом не знали. При этом, насколько нам известно, они даже не пытались опровергнуть притязания барийцев. Объяснить этот эпизод можно лишь грандиозным самообманом; венецианцы, обычно весьма здравомыслящие, тем не менее могли прекрасно убедить самих себя, что белое – это черное, когда того требовали слава и честь республики, не говоря уже о выгодах, которые сулил устойчивый поток паломников. Поэтому никто и не подумал усомниться, что в усыпальнице на острове Лидо упокоились подлинные мощи Николая Чудотворца. Прошло несколько столетий, прежде чем эту выдумку негласно признали таковой и перестали повторять во всеуслышание.
Новый дож, вступивший в должность в 1102 г., после смерти Витале Микьеля, – фигура довольно загадочная[77]. О его происхождении и предыдущей деятельности мы не знаем ничего, кроме того, что это был еще один представитель семейства Фальер. Кроме того, никто до сих пор не объяснил, откуда взялось его имя, уникальное не только для венецианской, но и для всей итальянской истории, – Орделафо. Впрочем, исследователи отмечали, что Фальеро – венецианский вариант более распространенной итальянской фамилии Фаледро, которая представляет собой почти точный палиндром имени Орделафо; если так, то, возможно, будущий дож получил свое странное имя по какой-то необъяснимой прихоти родителей. Как бы то ни было, именно под этим именем он был известен в народе; оно фигурирует в нескольких документах того времени и немного более поздних, а также, в сокращенной форме, на подписи к его портрету (в одеянии византийского императора) на Пала д’Оро – великолепном алтарном образе, который Пьетро Орсеоло установил в соборе Святого Марка, а Орделафо распорядился переделать и украсить еще богаче.
Работа над «золотым алтарем» еще продолжалась, когда на Венецию обрушилось первое из тех ужасных наводнений, которым она время от времени подвергалась на протяжении всей истории. Наводнения возникают под влиянием множества факторов – высоких приливов, обильных осадков, речных паводков, сильного и устойчивого юго-восточного ветра и некоторых других геофизических условий, выявленных лишь недавно. По отдельности эти факторы проявляются довольно часто и не вызывают особых проблем. Но когда они все совпадают друг с другом по времени, разражается апокалипсис, и именно такое катастрофическое совпадение пришлось на январь 1106 г. Даже если не принимать на веру рассказы очевидцев о сопутствующих событиях (о необычной жаре, от которой падали замертво люди и животные, о зловещем бурлении моря и рыбах, в ужасе выпрыгивающих из воды, о метеорах, проносившихся по небу), венецианские наводнения все равно по-настоящему страшны. В этом конкретном случае был стерт с лица земли целый город – Маламокко, старинная столица лагуны и ее внешний бастион, триста лет назад героически защитивший остров Риальто от короля франков Пипина. Не уцелело ни единого здания. Разрушилась сама почва, на которой стоял этот город: вплоть до XVIII в. при отливе можно было разглядеть остатки его домов и церквей, разбросанные по дну лагуны. Выжившие горожане бежали, захватив все сокровища, какие успели спасти, в том числе главную свою реликвию, голову святого Фортуната. Они нашли пристанище в Кьодже, куда вскоре из погибшего города был перенесен и епископский престол; прошло еще немало времени, прежде чем их потомки вернулись на Лидо и заново отстроили Маламокко на новом, более надежном месте – дальше к западу от прежнего.
Жители Риальто тоже серьезно пострадали, но, без сомнения, радовались, что избежали худшего. Однако ужасный для Венеции 1106 г. только начинался. Не прошло и нескольких дней, как в доме семейства Зено, стоявшем рядом с церковью Санти-Апостоли, вспыхнул пожар. Прежде чем огонь удалось погасить, выгорело почти дотла шесть кварталов, а 6 апреля случился еще более страшный пожар, начавшийся близ Сан-Лоренцо и уничтоживший, ни много ни мало, двадцать четыре церкви. О том, с какой силой бушевало пламя и как его раздувал ветер, можно судить хотя бы по тому, что по меньшей мере при одном из этих пожаров огонь перекинулся через Гранд-канал[78]. Напомним, что в те времена многие небольшие церкви и почти все частные дома горожан по-прежнему были деревянными; собор Святого Марка и Дворец дожей отделались сравнительно легким ущербом лишь благодаря своей каменной конструкции. С тех пор власти начали активно бороться с деревянным строительством, допуская его лишь в беднейших кварталах города. Сгоревшие церкви отстроили заново из мелкого красного кирпича и твердого белого камня из Истрии – эти материалы были дороже, но и не в пример надежнее, так что они остаются основными в венецианской архитектуре и по сей день.
С последствиями этих трех катастроф, случившихся практически одна за другой, венецианцы разбирались еще год или два, и только в 1109 г. дож Орделафо решил лично возглавить очередной поход в Святую землю. Мотивы, которыми он руководствовался, были, опять же, далеки от бескорыстного идеализма. По мере того как развивались государства Утремера (Заморья), основанные крестоносцами, христианское население на Востоке прибывало и рынки начали расширяться. Но те дни, когда Венеция пользовалась почти абсолютной монополией в торговле на Леванте, остались в прошлом. В частности, Пиза и думать забыла о вынужденном обещании, которое дала всего десятью годами ранее, после битвы при Родосе, и твердо вознамерилась освоить рынки Восточного Средиземноморья. Ненамного отставала от нее и Генуя – еще одна набиравшая силу морская республика. Чтобы соперники не оттеснили ее на второй план, Венеция должна была заявить о своих правах в этом спорном регионе – причем не просто словесно, а по возможности опираясь на военную силу.
Соответственно, летом 1110 г. лагуну покинуло около сотни венецианских кораблей. В октябре они прибыли в Палестину. Время было рассчитано идеально: король Балдуин, брат герцога Бульонского, сменивший его на иерусалимском престоле – и, в отличие от своего предшественника, не постеснявшийся принять королевский титул, – вел осаду Сидона. Несмотря на помощь опытных скандинавских наемников, дела у него шли неважно, так что внезапное прибытие венецианцев, должно быть, показалось ему даром небес. 4 декабря Сидон капитулировал. Венеции, как ни странно, не досталось здесь ни земель, ни привилегий, но вместо этого она получила часть Акры (захваченной шестью годами ранее и без всякого ее участия), а также право использовать в этом городе собственную систему мер и весов и содержать своего судью.
Благодарность венецианцев несколько умерялась сознанием того, что Генуя и Пиза, внесшие гораздо больший вклад в завоевания крестоносцев на более раннем этапе, получили схожие привилегии. Но все же в успехе похода сомневаться не приходилось, тем более что на обратном пути один корабль венецианского флота зашел в Константинополь и доставил оттуда еще одну из тех священных реликвий, которые так высоко ценились в Средние века, – мощи святого Стефана Первомученика, который, согласно Деяниям апостолов, был побит камнями еще в I в. н. э. По прибытии в Венецию Орделафо лично перенес останки святого на дожескую барку; после ожесточенных дебатов между несколькими соперничающими церквами, хорошо понимавшими, какую пользу можно извлечь из потока паломников, реликвию поместили на хранение в монастырскую церковь Сан-Джорджо-Маджоре. С тех пор и вплоть до падения республики, на протяжении семи веков, дожи возглавляли факельное шествие, направлявшееся в эту церковь на вечернюю службу в Рождественскую ночь – канун Дня святого Стефана[79].
Но, несмотря на богатую добычу с Востока и надежды на дальнейшую прибыль, Венеция не чувствовала достаточной уверенности в будущем. За десять с небольшим лет из ее верфей вышло около трехсот военных судов, что само по себе немало; но для того, чтобы полностью раскрыть потенциал торговли на Леванте – и устоять в борьбе с пизанцами и генуэзцами, – требовалось гораздо больше кораблей, и боевых, и торговых. Дож Орделафо развернул масштабную судостроительную программу, которая и стала его основным вкладом в развитие республики. До сих пор венецианские верфи были рассредоточены по всей лагуне, и многие из них, если не все, представляли собой частные мелкие предприятия. Но дож превратил кораблестроение в производство государственного значения, центром которого стали два болотистых островка, носившие название Дземелле (на венецианском диалекте – «близнецы») и располагавшиеся у дальнего конца Ривы, к востоку от города. За следующие полстолетия на Дземелле вырос огромный по тем временам промышленный комплекс – со своими верфями, литейными, лавками и мастерскими плотников, парусных мастеров, канатчиков и кузнецов, – который сам Данте описал в XXI песни своего «Ада» и название которого вошло в английский и многие другие языки как новое имя нарицательное – «арсенал»[80].
Разумеется, прошло еще немало времени, прежде чем Арсенал достиг такой невероятной эффективности массового производства, которая позволила содержать более 16 тысяч работников (в основном квалифицированных специалистов) и при работе на полную мощность раз в несколько часов спускать на воду новый, полностью оснащенный боевой корабль. Но хватило всего десяти с лишним лет, чтобы венецианское судостроение поднялось на новую высоту. С тех пор республике никогда уже не приходилось полагаться в непредвиденных ситуациях лишь на те суда, которые можно было собрать на данный момент с разрозненных частных верфей. Отныне – по мере необходимости и насколько позволяли государственные финансы – можно было планировать наперед, в рамках долгосрочных кораблестроительных программ. Что еще важнее, появилась возможность стандартизировать конструкции и накопить резерв запасных частей, а благодаря этому даже на самый серьезный ремонт и переоборудование стало уходить на порядок меньше времени. Сложились условия, в которых можно было пересмотреть и коренным образом усовершенствовать и саму конструкцию кораблей, и технологию строительства. Неслучайно основание Арсенала приблизительно совпадает по времени с развитием новой технологии: раньше корабли строили, начиная с обшивки, которую затем укрепляли шпангоутами, а теперь первым делом стали возводить каркас. Кроме того, в начале XII в. произошло разделение на два типа конструкции: военную и торговую.
Впрочем, разница между ними была не столь уж велика. Один из секретов, позволивших Венеции подняться на вершину могущества, заключался в том, что она не рассматривала оборону и коммерцию как две принципиально разные задачи. Капитаны ее военных кораблей – и в те времена, и позже – не чурались возможности приторговывать на стороне в свободное от сражений время (благодаря чему многие военные экспедиции окупали себя сами), а ее торговые суда всегда были готовы защититься от пиратов и агрессивных конкурентов. В феодальной Европе, где военная аристократия воротила нос от торговли, такая система сложиться не могла, но в Венеции не было отдельного воинского сословия: патриции были купцами, а купцы – патрициями; интересы тех и других полностью совпадали. Поэтому военные корабли на верфях Арсенала оборудовали грузовыми отсеками, насколько допускала конструкция, а торговые суда оснащали средствами обороны.
Но Арсенал, разумеется, нуждался в сырье, а источники леса – важнейшего из всех материалов, необходимых для судостроения, – вскоре оказались под угрозой. Дерево везли главным образом из-за Адриатики, с островов у побережья Далмации, покрытых густыми лесами и долгое время обеспечивавших практически неистощимый запас древесины. Проблема, однако, заключалась в том, что на эти территории давно зарилось Венгерское королевство, до некоторых пор не имевшее выходов к морю. За несколько лет до основания Арсенала венгерский король Кальман I присоединил к своим владениям Хорватию и, дойдя до побережья, захватил несколько крупных городов. То был недвусмысленный акт агрессии по отношению к Венецианской республике, которая вынуждена была проглотить оскорбление, поскольку весь ее флот участвовал в кампании на Востоке. Но теперь настало время возмездия. С помощью обоих императоров – Генриха V, всего два месяца назад посетившего Венецию, и Алексея Комнина – города удалось отвоевать; но, увы, как только победители отправились по домам, венгры снова нагрянули на побережье. Орделафо тотчас вернулся и возобновил борьбу, но долго она не продлилась. Через неделю или две, летом 1118 г., дож погиб в сражении под стенами Зары[81].
За шестнадцать лет своего правления дож Орделафо Фальеро завоевал глубокую любовь и уважение подданных. Он умел вести людей за собой, но в той ситуации это не принесло венецианцам пользы. Увидев, что их предводитель пал, люди Орделафо – ненавидевшие, как и все их сородичи, сражаться на суше, – ударились в панику и обратились в бегство. Венгры пустились в погоню и успели истребить большую часть венецианского войска, еще совсем недавно не сомневавшегося в своем превосходстве над врагом. Горстка уцелевших вернулась на родину со скорбными вестями.
Преемник Орделафо, Доменико Микьель, тоже участвовал в битве при Заре, но предотвратить бегство не смог. Трусом он не был; напротив, в «Альтинской хронике» он предстает как vir bellicosus («воинственный муж»), и в грядущие годы ему не раз довелось на деле доказать свою доблесть. Внук дожа Витале Микьеля и сын Джованни, возглавлявшего поход на Восток в 1099 г., он был воспитан в патриотическом духе, в старинных венецианских традициях, ставивших во главу угла служение общественному благу. Но первым его деянием в должности дожа стали переговоры о мире с венгерским королем Иштваном II, сыном Кальмана. Учитывая, насколько слабой была его исходная позиция, следует признать, что Доменико добился замечательных результатов. Иштван охотно согласился на пятилетнее перемирие, на время которого все города и, самое главное, леса Далмации оставались в распоряжении Венецианской республики.
Подобная щедрость со стороны венгров, возможно, отчасти объяснялась новостями, доходившими из Палестины на протяжении лета 1118 г. 2 апреля скончался король Балдуин, а через четыре месяца, 15 августа, сошел в могилу и византийский император Алексей Комнин. Сарацины между тем набирали силу. Будущее христианства на Востоке казалось мрачным, да и ситуация на Западе отнюдь не способствовала укреплению веры. Давняя борьба между империей и папским престолом продолжалась; в январе прошлого года умер папа Пасхалий II, преемником которого был избран Геласий II, но императора Генриха V так разгневал этот выбор, что он назначил антипапу, ввел его в Латеранский дворец и отправил Геласия в ссылку. В столь непростые для церкви времена христианским народам не приличествовало драться друг с другом. Две самые могущественные державы Центрального Средиземноморья должны были это понимать и – во имя Христа и общего блага – уладить свои разногласия миром, пусть и ненадолго.
Таковы, по крайней мере, были аргументы Венеции, и король Иштван признал их правоту. Но насколько искренне они были выдвинуты – совершенно другой вопрос. Как мы уже видели, крестоносный пыл венецианцам был чужд. Крестовый поход интересовал их лишь постольку, поскольку открывал новые коммерческие возможности, а будут ли торговые партнеры Венеции христианами или мусульманами, не имело значения: лишь бы цены оставались разумными, а оплата по счетам поступала в срок. Очередную экспедицию на Восток венецианцы отправили только через четыре года, и мотивы, которыми они при этом руководствовались, были, мягко говоря, смешанными.