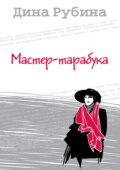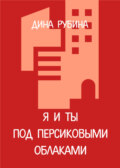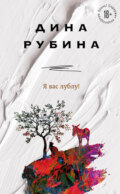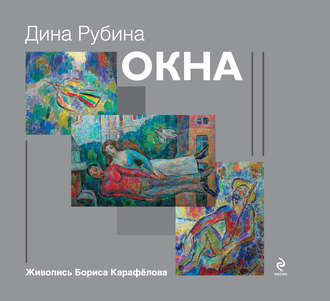
Дина Рубина
Окна (сборник)
– Есть два типа женского лица: «Подойди ко мне!» и «Отойди от меня!»…
И сразу становилось ясно, какой тип женского лица я в данный момент представляю.
Если же я упорствовала в своем идиотском хохоте, не умолкая, сама от себя заражаясь щекотливым всхлипывающим весельем, она укоризненно произносила на идише:
– Отец, ты смеешься? Горе твоему смеху…
Почему никогда не пришло мне в голову выяснить, отчего это она обращается ко мне словом «отец»? Из какой высокой трагедии взяты эти слова? И какой отец имеется тут в виду… Все то же глазастое, но равнодушное детство: ведь мир принадлежит тебе одному и вращается вокруг тебя со всеми своими людьми, словечками, поговорками, чудесами, и так оно и должно быть, и будет так всегда…
Идиш я понимала. Не все, но общий смысл. На идише бабка говорила только с дедом и мамой. Когда они усаживались делать пирожки с капустой или с яйцом, или принимались шить, штопать – мягкая гортанная речь перелетала от одной к другой где-то над моей макушкой, едва касаясь сознания… Если дважды, со вздохом повторялось цим ломп – «до лампы», – можно было быть уверенной, что речь идет обо мне; бабка любила приговаривать, что этой упрямой козе все – «до лампочки». И, по сути дела, это было правдой: я росла девочкой, замкнутой в своем мире. Да такой, собственно, и осталась – если принять во внимание скуку, что неизбежно охватывает меня в любом общественном действе, в самом интересном месте спектакля, в гуще всевозможных «презентаций», «фуршетов» и прочей маеты…
* * *
Иногда на меня накатывало желание покрутиться возле нее на кухне, послушать еще какую-нибудь историю, поучаствовать в приготовлении мацы, которую бабка не покупала, а всегда выпекала на Пасху сама. Это были тонко раскатанные круглые пластины пресного теста, которые она протыкала вилкой – «чтоб дышало». Если я хорошо себя вела, мне поручалось «тыкать».
– Натычь, – говорила бабка, вручая мне тяжелую вилку, и, схватив ее в кулак – так убийца хватает нож, – я, остервенело оскалившись, быстро-быстро всаживала все четыре зубца в кругло раскатанный блин, усеивая его множеством ранок.
(Такую мацу лет сорок спустя я видела на иллюстрации к старинной испанской пасхальной агаде. Значит, испанские кумушки пятнадцатого века мацу готовили в точности как моя бабка…)
Когда мы с нею «работали», между нами возникало теплое чувство совместного деятельного усилия. Если ей казалось, что я мухлюю, она, глядя в окно на хлопотливую тополиную листву, меланхолично произносила длинную фразу на идише, которую сама тут же и переводила эпическим полунапевом: «Небо и земля клялись, что тайн на свете не бывает».
– Каких еще тайн? – подозрительно уточняла я.
– Та я к слову, – невинно отзывалась хитрая бабка.
С нею ловко было работать – уютно, ладно, споро… Недаром на конфетной фабрике своего отца, а моего прадеда Пинхуса Когановского Рахиль была лучшей заворотчицей. Вот надо же, чуть не забыла: ведь моя бабка на старости лет стала стахановкой Перед войной ее, вечную домохозяйку (дед Сэндер считал, что женщина должна сидеть дома и растить детей), сестра Вера, впоследствии расстрелянная в очередном рву под Полтавой, решила устроить на местную конфетную фабрику, где сама работала бухгалтером. «Будет тебе черта смолить, – говорила она, – дети выросли, хозяйство невеликое. А тут все же общество, и подработаешь».
Когда начальник цеха увидел новенькую – женщину немолодую и дородную, – он сказал Вере:
– Ты что, Верпетровна! Ты б еще инвалида какого приволокла… Мне ж ее год учить, не меньше. Не-е… в нашем деле молодая сноровка нужна…
– А разрешите к столу присесть? – спросила бабка и, уже не обращая внимания на начальника цеха, села в ряду мастериц-заворотчиц и принялась за дело. Через минуту вокруг нее собрался весь цех. Люди глаз не могли оторвать от едва заметной ювелирной точности и феноменальной скорости, с которой полные руки этой женщины совершали множество молниеносных движений.
Так вот, бабкины притчи. Все они были из разряда про живую жизнь. Рассказывала она как бы между прочим, неторопливо, закрывая пельмешки, заворачивая голубцы, раскатывая скалкой круг теста или уминая ложкой фарш в пустое нутро болгарского перца. Но в тот момент, когда должна быть произнесена ключевая реплика, приостанавливалась. Вот кто умел держать паузы – так это моя бабка. Системы Станиславского она не знала. Но оторвать взгляд от движения ее бровей, губ и глаз было невозможно:
– У нас в Золотоноше семья жила, аптекой владели… Всем там заправляла мамаша – грозная старуха была, скупая. Кухарки у них не было, мамаша сама кухарила. И требовала, чтоб вечером вся семья за ужином собиралась. Самолично каждому в тарелку клала кусок мяса из борща. Однажды сын – так получилось – приходит домой пораньше. Ищет мать… в комнатах нет, во дворе нет… Заглянул на кухню – а там сидит его мамаша, выловила из борща лучшие куски мяса, полную тарелку себе наложила и уплетает за обе щеки. «Что вы делаете, маман?» – спрашивает сын, вытаращив глаза. «Что я делаю? – отвечает та. – Я кормлю вам вашу мать!»
Это – при нарочитой скупости жестов – всегда была точно разыгранная сценка. Неприятно удивленный сын, заставший мать за поеданием лучших кусков, и – легкое движение бровей, усмешка, пожатие плеч – великолепный апломб невозмутимой старухи. Одна картинка сменяла другую, и, бывало, за приготовлением пирожков бабка умудрялась развернуть передо мной целый ряд сцен и анекдотов из жизни дореволюционного местечка. Иногда та или другая история возникала на почве раздора, когда, к примеру, мне предлагалось вымыть посуду, а я бесстыдно отлынивала.
– Женское лицо… – начинала она.
– Знаю, знаю! – огрызалась я. – Бывает двух типов: отойди-подойди!
– Та я ж не о том, – покладисто отзывалась бабка. – Я о жизни. Бывает, повезло девушке: родилась она ладненькая, да красивая, да с характером… Но счастье совсем не этим приманивают.
– А чем? Чем?!
– У нас в Золотоноше семья жила, люди серьезные, состоятельные… Он был закупщик, деловой такой мужчина, со срэдствами; жена шила наряды аж в Киеве. Дочь у них была одна, и такая, скажу тебе, дочка… ой-ёй-ёй! И вот к ней посватался один из Сатанова. Тоже не бедный: компаньон отца по торговым делам. Не очень молодой, но так, в возрасте и еще в силе. Свадьба была – дым коромыслом. Петарды в небо пуляли, аж на дальних лугах было видно, как днем. Ну, отпраздновали, и отбыли молодые в Сатанов… Проходит неделя, другая… никаких оттуда вестей. Молчок, тишина… То-о-олько мамаша с папашей наладились в гости к дочери – как там, эр зугт, наша дочка хозяюшкой в дому живет? – как однажды утречком едет издали телега, со стороны Сатанова. Ме-е-е-едленно едет, потому как гружена доверху. А за телегой мальчишки бегут – гвалт, шум, свист… Соседи выглядывают в окна и видят: правит телегой зять…
– Компаньон? В возрасте и силе?
– Ну да… Правит зять телегой, а за ним сидит понурая молодая. А позади – гора немытой посуды! Чашки, тарелки, супница в лиловый цветочек…
– Потому телега медленно ехала? Чтоб не разбить?
– Ну да. Ты слушай, слушай. Для тебя рассказываю… Приближается этот кортэж к дому… останавливается… И на глазах оторопевших родителей зять ссаживает молодую. Принимайте, эр зугт, свое сокровище, а заодно и все ее приданое. Ни одной чашки, эр зугт, за три недели она не помыла. Кончался один сервиз – ели на другом. А теперь, эр зугт, сервизы кончились, и таки закончилась моя семейная жизнь…

Ущербная луна. 2011
Лицо ее при этом сохраняло невинное и даже особо доверчивое выражение, но при этом она, якобы украдкой, посматривала в сторону таза, полного грязной посуды.
– А-а-а! – вопила я. – Ты все врешь! Это ты придумала! Супница в лиловый цветочек! Придумала!
– Как такое можно придумать, – укоризненно отзывалась она. – Это же не книжка, это живая жизнь…
* * *
«Живая жизнь», которую моя бабка так любила расцвечивать своими историями, остается неизменной, даже когда заканчивается.
Бабкина долгая цепкая жизнь закончилась без меня – я в то время жила в Москве, и о том, как поживает моя «заядлая бабка», узнавала из маминых звонков. В последние годы бабка сидела в кресле, ноги отказали, но память и ясный ум не оставили ее до самого конца.
– Ты что на завтрак приготовишь? – спрашивала она уже немолодую мою маму, которая добиралась к ней каждый день двумя трамваями.
– Оладушек нажарю…
– Оладушки были вчера.
– Может, овсянку сварить?
– Овсянка позавчера была… У тебя что, фантазии не хватает? У нас в Золотоноше семья жила, так их ленивая прислуга наладилась каждый божий день жарить драники с лучком… И все драники и драники: в понедельник – драники, и во вторник – драники, и в среду…
Это было тяжелое время, когда я решала самую трудную задачу своей жизни – извечную задачу моего народа по возвращению на круги своя – большую рокировку на пути преодоления Синайской пустыни.
В один из предотъездных вечеров позвонила мама и заплаканным, но освобожденным голосом проговорила:
– Бабушку похоронили… Вот смерть! Во сне ушла… Кто угодно позавидует.
Выходит, подумала я тогда, дед Сэндер все-таки выхлопотал для своей Рухэлэ легкую участь – там, где усердно правит нож его коллега по цеху резников ангел смерти Гавриэль.
– Грешно сказать, – добавила мама со вздохом, – но она будто подорожную нам выписала. Давай, диктуй по пунктам – с чего начинать там, в этом ОВИРе?
В те дни и недели, одолевая предотъездный морок, я слишком была взвинчена, слишком измучена переживаниями, слишком яростно боролась в каждой ночи с собственным ангелом, пытаясь вырваться из тисков сомнений и страха; и в то же время слишком была устремлена в неизвестное, обмирая от мысли, что неверным решением могу погубить всю семью…
Кончина девяностопятилетней бабки в эти дни ощущалась мной как всеобщее освобождение: так вол, нагруженный жестокосердным хозяином, сбросив со спины один из тяжелых тюков, легче ступает по краю пропасти…
* * *
Думать о ней, о ее жизни я стала совсем недавно… Возможно, потому, что состарилась мама и вдруг сквозь ее совсем иные родовые черты стала проступать бабкина мимика, ее вздергивание брови, ее морщинистая усмешка… А может, потому, что повзрослела моя дочь и стала напоминать юную бабку на той допотопной фотографии. Бывает, сидим за субботним ужином, и принимается она рассказывать что-то смешное из своей археологической практики: все те же развалины, библейская скала, обломки колонн – а я глаз не могу оторвать от ее взлетающих рук. Впрочем, любовь к дочери – дело нехитрое.
И все-таки что заставляет меня столь настойчиво думать о бабке?
Я пытаюсь осмыслить страшное несоответствие между отпущенными ей при рождении дарами-талантами и тусклой, ничем не примечательной судьбой домохозяйки. О ее жизни, выброшенной на ветер; о неудаче творца, о разбазаривании такого богатого материала. Что случилось там, наверху, в момент, когда перл человеческий вышел на орбиту Судьбы? Чего не учли, что не доделали в высочайшем отделе кадров и кто из ответственных лиц так напортачил?.. Другими словами: как умудрились бездумно запороть такой объект?..
– Помнишь, какой она была рассказчицей? – спрашиваю я маму.
– Я тебя умоляю, – отзывается та. – Что такого бабка могла рассказать? Историю из трамвая?
– Ты что?! – кричу я с досадой. – Не помнишь ее монологи?! Она ведь сама сочиняла текст, когда изображала людей. Да в ней умерла великая актриса и, может быть, замечательный писатель!
– Ты домысливаешь… Творческое воображение. Вот когда я объясняла урок на тему «Убийство императора Павла Первого» и описывала, как…
Ну да, да, это правда: когда мама описывала, как, заслышав шаги убийц на лестнице, Павел вскочил с кровати и спрятался в камине… «Но экран камина не мог скрыть его ноги, – торопливо-взволнованно продолжала мама, простирая руку в угол, – и едва взошла луна, осветив эти бледные полудетские ступни – там, там, в углу комнаты!..» В этом месте весь класс, как по команде, вставал и завороженно глядел в пустой угол аудитории.
– И все-таки, – не успокаиваюсь я. – Если б она вышла замуж не за деда Сэндера, а за того художника и он увез бы ее, скажем, в…
– Он увез бы ее в Харьков, где она точно так же родила бы двоих детей, и мыла гречку, и раскатывала мацу. Не тешь себя иллюзиями. Это просто в ней артистическая жилка билась, как во всех нас. Вспомни: когда ты выступаешь, кто-нибудь из публики обязательно спрашивает, какой театральный институт ты закончила.
И это, что уж там скрывать, – правда…
* * *
А живая жизнь все длится, обнаруживая удивительные переклички нрава и повадок через поколения. Персонажи бабкиных притч все в конце концов оказываются мною, лично мною – к моей досаде или насмешке.
Вот как я мою гречку. Завершив работу над рукописью к обговоренной дате, я тяну и тяну, не в силах с ней расстаться. Там заменю одно слово на другое, подумаю и верну прежнее; там вместо точки поставлю запятую, сотру и заменю многоточием. Ведь живая жизнь из всех знаков препинания в финале предпочитает именно многоточие.

Ноктюрн. 1994
Недавно, читая сборник притч и рассказов о Бегите – великом Баал-Шем-Тове, мудреце, каббалисте и хасидском мистике XVIII века, что жил неподалеку от бабкиных мест, в украинском местечке Меджибож, – я с удивленной радостью встречала бабкины притчи. Не в точности ее истории, другие, но это был все тот же извод на тему: «Однажды идет он, а навстречу…» или: «Жил у нас в Сатанове один мужчина…» А то и так: «Женился он на другой, и родила ему та двух сыновей. И не знаю, близнецов ли или же одного за другим…»
Это была все та же поучительная, обстоятельная библейская телесность, та же конкретность деталей в сочетании с мистическими высотами сияющих чудес.
Целый мир, целый огромный мир парил там над землей, не улетая, однако, ввысь, но и не растворяясь в воздухе, а протягивая крепкие нити между землей и небом, как бы втолковывая всем нам, что не может быть одного без другого и что небо и земля клялись: тайн на свете не бывает…
Кто только не населял мир этих притч, кто только не клубился, сталкиваясь, переплетаясь и дивясь один другому! Там лихие ангелы входили в дом к бедняку, просясь на ночлег, там усердно, будто золотой песок, хозяюшки мыли гречку до небесной чистоты житейских помыслов, там бродяги и лэйдегееры смолили на продажу отборных чертей; там милосердный резник Гавриэль вонзал блаженный нож в иссохшую грудь нищего праведника, отпуская в полет его истомленную душу…
Но вот что интересно мне сейчас: всего три года обитали в домике на Кашгарке мои дед с бабкой, всего несколько каникулярных недель я у них провела и, в сущности, мало что помню: узбекское кладбище на взгорке, последний лоскут последнего майского мака под ветерком; бегущего по засохшей глине скорпиона, старую иву с лиловым окном-прорехой в текучей кроне…
Почему же отсюда, с моих нынешних, совсем иных географических и временных горок, именно этот домик с верандой кажется мне цитаделью спокойствия и любви в сердцевине беспокойного детства? Почему не могу я забыть бинты, змеящиеся по полу, сизые культи еще живого деда и то окно, исполненное листвы или застывших ледяных картин?
Почему до сих пор манит меня огненный мотылек скудеющей свечи в том давнем, почти неразличимом окне, где все еще трепещет птичьими крыльями заполошная листва начала моей жизни?
Начала жизни, которой не будет конца…
Ты смеешься, Отец? Ты – смеешься?
Торе твоему смеху…
Иерусалим, июнь 2011

Страж Гранд-канала. 2004
Снег в Венеции
«…Вступает домино – и запретов более не существует. Все гениальнейшие в Городе убийства, все трагедии ошибок случаются во время карнавала; и большинство любовных драм завязываются и разрешаются в течение этих трех дней и ночей, когда мы – на миг – обретаем свободу от рабства паспортных данных, от самих себя…»
Лоренс Даррелл, «Бальтазар»
Более всего этому городу идет ночь, и, вероятно, особенно хорош бывал он в зловещем свете факелов, в каком-нибудь семнадцатом столетии.
Впрочем, тревожное пламя факела и сейчас иногда озаряет вход в ночное заведение, заманивает в глубокую арку или обнажает подраненный бок кирпичной стены, который неосознанно хочется чем-нибудь подлатать.
С наступлением темноты в черной воде каналов тяжело качаются огненные слитки света. Под каменным гребнем моста Реальто ворочаются с боку на бок гондолы, задраенные на ночь синим брезентом. Мелкая волна раздает оплеухи набережным и сваям, а у входа в палаццо, где мы пьем последнюю за день чашку кофе, два гигантских фонаря на причале освещают витые деревянные столбы, увенчанные полосатыми чалмами, что свалились сюда из сказки о золотом петушке и Шамаханской царице…
1
Но бешеный рваный огонь возник перед нами во второй вечер карнавала, на узкой улочке в районе Каннареджо, на вид совсем уж захолустной. Мы сбежали туда с площади Сан-Марко, чьи мраморные плиты, усыпанные конфетти, утюжила подошвами ботфорт и золоченых туфелек, мела подолами юбок и плащей возбужденная костюмированная толпа.
Только что на пьяцце завершилось театрализованное представление в роскошных декорациях, возведенных по эскизам главного сценографа Ла Скалы. Золотом и бархатом сверкали расписанные красками фанерные ложи, экран на заднике сцены в десятки раз увеличивал фигуры отцов города в костюмах венецианских дожей, и когда, овеянные штандартами, они под барабанный бой и вопли фанфар спустились наконец со сцены, публика ринулась к трехъярусному фонтану – подставлять кружки, пригоршни, футляры от очков и даже туфельки под розовые струи вина провинции Венето.
А мы брели в туманном киселе февральских сумерек, дивясь меланхолическому одиночеству этой улицы, как бы утонувшей, исчезнувшей с карты карнавала – возможно, по случаю перебоев с электричеством. Видимо, город, не выдерживая напряжения всех карнавальных огней, отключал на время какие-то менее туристические районы. Хотя и тут мы то и дело натыкались на извечные венецианские промыслы: за арабской вязью низкой приоконной решетки мастерской по изготовлению масок лежал брикет скульптурного пластилина, стояла банка с кистями, кастрюлька с клеевым раствором, ступка с пестиком набекрень…
Мы шли, и я рассказывала Борису о вычитанной в одной из книг о Венеции изобретательной и веселой казни, которую практиковали в дни карнавалов: осужденного на смерть преступника выпускали на канат, натянутый для канатоходцев между окнами палаццо.
– Ну что ж, – благодушно отозвался Боря, – все-таки шанс…
– О да: либо пройдешь до конца и спасешься, либо умри шикарной смертью артиста.
Вдруг из арки впереди выплеснулась лужа огня. За ней вынырнула фигура высокого мужчины в черном плаще с капюшоном. То, что это «моро», видно было не только по маске, но и по явно загримированной мускулистой руке, в которой пленным пламенем опасно захлебывался факел. Мы даже отпрянули, хотя карнавальный мавр находился шагах в сорока от нас.
– Ты идешь? – крикнул он по-английски кому-то за спиной.
– П-п-погоди, туфель спадает! – Из той же арки возникла высокая тонкая фигура в лилово-дымчатом, цвета сумерек, платье, в серебристой полумаске и круглой шапочке на пышных каштановых кудрях. Девушка огляделась по сторонам, обеими руками подхватила подол юбки и заспешила вслед за своим грозным спутником.
– Хороши!.. – невольно выдохнула я.
Они повернули к горбатому мостику в конце улицы (яростный огонь в вытянутой руке мавра метался по кирпичу стен, вывалив пылающий язык, словно ищейка на обыске), поднялись по ступеням на мост и канули – так за горизонт уходят корабли, – утянув за собой отблески пламени. И наступила тишина, такая, что в воздухе родился и долго дрожал где-то над дальним каналом стон гондольера:
– О-о-и-и-и!..
– Знаешь, кто это был? – спросил Борис. – Та странная пара, с нашего катера.
– С чего ты взял? Как тут опознаешь…
– Да по голосам, – отозвался муж. Довод в нашей семье убедительный: он безошибочно узнает голоса актеров, дублирующих западные фильмы.
– К тому ж она заикается, – добавил он. – Ну, и рост: оба такие заметные… Наверное, костюмы напрокат взяли… Недешевое удовольствие! У них и чемодан был – помнишь, какой?
И пустился в рассуждения о том, что чернокожие очень органичны в этом культурном пространстве: достаточно вспомнить картины венецианца Веронезе, со всеми его курчавыми арапчатами, живописными иноземными купцами в тюрбанах, лукавыми черными служанками…
– Да и тот же Отелло, – подхватила я, – как ни крути, не последним тут был человеком.
Кстати, чернокожий портье у нас в гостинице был добродушен, предупредителен, расторопен и, на мой слух, отлично говорил по-итальянски. Впрочем, и я, на слух непосвященных, отлично говорю на иврите…
* * *
Мечта о венецианском карнавале сбылась нежданно-негаданно и сбылась, как это часто бывает, в считаные минуты: просто я заглянула туда, куда обычно не заглядываю: в рекламный проспект компании «Виза», который получаю каждый месяц по почте вместе с распечатками трат, по мнению моих домашних, «ужасающими». Там, наряду с путешествиями в глянцевые Барселону, Таиланд и Китай предлагался «Карнавал в Венеции: полет + три ночи в отеле». Цена выглядела вполне одолимой, тем более если покрошить ее на платежи, как голубиный корм на Сан-Марко. И, не давая себе ни минуты опомниться, я позвонила и радостно заказала два билета…
В то время мы с Борисом уже задумали эту странную совместную книгу, где оконные переплеты в его картинах плавно входили бы в переплет книжный, а крестовина подрамника служила бы образом надежной крестовины окна-сюжета. И без венецианских палаццо – с кружевным и арочным приданым их византийских окон – вышло бы скучновато.
– Ну, ясно, отчего так дешево, – огорченно заметил мой муж. Он изучал в Интернете карту на сайте отеля. – Мы загнаны в Местре.
– Как?! С чего ты взял?! – ахнула я.
– С того, что неплохо на адрес гостиницы глянуть, прежде чем банк метать…
Я глянула и застонала: опять мы из-за моего придурковатого энтузиазма обречены молотить кулаками воздух после драки.
А тут еще Борис припомнил слова нашей итальянской подруги о том, что на карнавальную неделю венецианский муниципалитет расставляет по городу регулировщиков, дабы направлять по узким улицам потоки туристов.
– На эти дни надо снимать комнату исключительно в центре, – говорила она. – Жить в пригороде во время карнавала – это самоубийство: сорок минут в электричке, толкотня, жулье, столпотворение народов и уже к полудню – отброшенные копыта.
– Хочешь, пошарю в Интернете? – сочувственно предложила дочь, забежавшая к нам после университета. – Вдруг что-то выловлю.
– Да бросьте вы! – крикнул Борис из мастерской. – Безнадежно… Люди разбирают гостиницы на карнавал по меньшей мере за год.
Однако вечером дочь позвонила.
– Слушай, тут выплыл номер! Может, кто отказался. Отель – три звездочки, в двух шагах от Сан-Марко…
– Сколько? – нетерпеливо оборвала я.
Она назвала сумму, от которой я задохнулась.
– Сволочи, сволочи, сво-ло-чи!

«Доброе утро, синьор почтальон!». 2007
– Само собой, не заказываем?
– Заказываем, само собой!!! – крикнула я, как раненый заяц. Деваться-то было некуда.
* * *
Мы опасались, что в очереди на катер «Аэропорт – Венеция» придется отстоять немало времени, но – приятная неожиданность – поток пассажиров хлынул к стоянке такси и обмелел на подступах к кассам общественного морского транспорта. Так что, свободно купив билеты, мы вышли на причал и спустились в салон небольшого катера, что терпеливо вздрагивал на холодном ветру и всхлипывал в мелкой волне, как дремлющий пес на привязи…
Я плюхнулась на скамью возле иллюминатора и тоже задремала, а когда проснулась, катер уже взрыхлял лагуну, точно плуг – разбухшую почву, прогрызая в зеленой воде пенистый путь, и, как от плуга, плоть волны разваливалась по обе стороны от винта. В какой-то момент поодаль возникла и развернулась каменная ограда кладбища Сан-Микеле. Зимнее солнце стекало по черному плюшу кипарисов на камни ограды, быстро перекрашивая их широкой кистью в розовый цвет. Мы огибали острова, причаливали, сгружали туристов, раскачиваясь и со стуком отирая бок о причал, и вновь сиденье подо мной дрожало, вновь дребезжало какое-то ведро на корме, и между бакенами убегал назад кипучий хвост адриатической волны…
Борис, как обычно, что-то набрасывал карандашом в дорожном блокноте, бегло вскидывая взгляд и опять опуская. Я скосила глаза на лист и увидела портреты двух пассажиров. Зарисовывать их можно было, не скрываясь: слишком оба заняты собой, причем каждый – собой по отдельности.
Необычная пара: он – высокий, смуглый, атлетического сложения пожилой господин в длинном пальто, с абсолютно лысой, а может быть, тщательно выбритой головой брюзгливого римского патриция. А она – красавица из красавиц. Я даже себе удивилась: как могла пропустить такое лицо!
Юная, лет не больше двадцати, тоже высокая и смуглая, в расстегнутом светлом плаще, который она то и дело нервно запахивала. Редкой, прямо-таки музейной красоты лицо, из тех, что глянешь – и лишь руками разведешь: нет слов! Как обычно, дело было не в классических чертах, что сами по себе погоды еще не делают, а в их соотношениях, в теплом тоне кожи, в каких-то милых голубоватых тенях у переносицы, в ежесекундных изменениях выражения глаз. А сами-то глаза, ярко-крыжовенного цвета, глядели из-под бровей поистине соболиных: густые разлетные дуги, прекрасное изумление во лбу. Это все и определяло: неожиданный контраст смуглой кожи с весенней свежестью глаз, да еще роскошная грива темно-каштановых кудрей, спутанных маетой ночного рейса.
Господин в длинном пальто всю дорогу непрерывно говорил по двум телефонам, полностью игнорируя спутницу, хотя она то и дело к нему обращалась, даже подергивала за рукав – как ребенок, что пытается завладеть вниманием взрослого. Время от времени он вскакивал и разгуливал по салону катера, содрогавшемуся в усилии движения, и вновь садился, нетерпеливо перекидывая ногу на ногу, иногда грозно порявкивая на невидимого собеседника. Похоже, он давал указания сразу трем туповатым подчиненным или заключал по телефону сразу три крупные сделки. Говорил на каком-то смутно знакомом мне по звучанию языке, хотя девушке отвечал – да не отвечал, а буркал – по-английски. Возможно, ему не хватало терпения ее выслушивать: она довольно сильно заикалась. Юной красавице он годился в отцы, хотя мог быть и мужем, и возлюбленным, и боссом.
Наконец дорога меж бакенами сделала очередную дугу, катер лег на бок, разворачиваясь, и утренней акварелью на горизонте – слоистая начинка черепичных крыш меж дрожжевой зеленью лагуны и прозрачной зеленью неба – открылись купола и колокольни Венеции, к которой катер энергично припустил вскачь.
Интересная пара сошла на остановке «Сан-Заккария». Поспевая за мрачноватым спутником, девушка что-то горячо повторяла, потрясая глянцевым листком какой-то рекламы, извлеченным из сумочки. В тот же миг в кармане его пальто очередной раз грянул марш, он выхватил мобильник и прикипел к нему, отмахиваясь от девушки.
– Ты обратила внимание, какой у них чемодан? – спросил Борис.
Явно очень дорогой чемодан на упругих колесах, с множеством накладных карманов, застежек и ремней катил за хозяевами послушно и легко и казался общим ребенком, которого усталые родители волокут домой за обе руки.
* * *
Наш отель стоял на одном из каналов. Попасть в него с набережной можно было только через горбатый мостик: мини-аллюзия на замок с перекидным мостом через средневековый ров. Высокие окна вестибюля – днем, несмотря на холод, открытые – тоже выходили на канал, и во всех трех – изобретательная дань карнавалу! – присели на подставках дивные платья XVIII века: одно – классической венецианской выделки, бордо с золотом, все обшитое тяжелым витым шнуром; второе – пенно-голубое, сборчатое, облачное, обвитое лентами по плечам и талии, присыпанное серебряными блестками по кромке открытого лифа. Третье же – черное, траурное, отороченное белыми перьями, – оно и было самым завораживающим и стоило любой увертюры. А длинные накидки к платьям, искусно уложенные драпировщиками, в изнеможении спускались по ступеням до самой воды…
Присутствие жизни восемнадцатого столетия было столь ощутимым, что самыми несуразными и неуместными казались мы с нашими фотоаппаратами.
Зато на соседней площади процветал модный магазин-галерея, где дизайнерскую одежду представляли забавные манекены: вырезанные из фанеры и искусно раскрашенные венецианские дожи в чем мать родила. Вполне исторические лица, о чем свидетельствовали таблички: почтенные старцы Леонардо Лоредано, Франческо Донато, Себастьяно Веньер и Марк Антонио Тривизани стояли в коротких распахнутых туниках и в дамских туфлях на высоких каблуках. Их жилистые ноги и козлиные бородки в сочетании с женской грудью, вероятно, должны были что-то означать и символизировать – не саму ли идею карнавала, стирающего без следа приметы лица и пола?
* * *
– Нет, нет, – повторял Боря, продираясь сквозь вечернее столпотворение на пьяцце Сан-Марко, поминутно оглядываясь – поспеваю ли я за ним. – Нет, это профанация великой темы. И грандиозные деньги, вколоченные в туристический проект.
И в самом деле: умопомрачительное великолепие костюмов встречных дам и кавалеров наводит на мысль о статистах, оплаченных муниципалитетом Венеции. Уж очень дорого обошлись бы такие костюмы обычным туристам, уж слишком охотно персонажи останавливают свой величавый ход и дают стайкам фотографов себя снимать. Они кланяются, садятся в глубоком книксене, трепещут веерами и элегантно отставляют трости, напоказ расправляют плечи и раскрывают медленные объятия…
Мы опоздали к открытию карнавала, к волнующему Il volo dell’angelo – «Полету ангела». Правда, в самолете по телевизору мелькнул этот, действительно потрясающий эпизод карнавала: прекрасная ангелица – a la лыжник с горной вершины – съезжала на металлическом тросе с высоты колокольни Сан-Марко, и летела, и летела к Палаццо Дукале, а за ней пламенеющим драконом стелился над площадью двенадцатиметровый плащ, сшитый в виде гигантского флага Венеции.
К нашему приезду карнавал уже созрел, как пунцовая гроздь винограда, настоялся на озорной и злой свободе, как хорошее вино, а главное, оброс многолюдными компаниями, что шляются весь день, от одной траттории к другой, или просто колобродят с полудня и до рассвета по улицам, набережным и мостам.
Часам к одиннадцати утра ты оказываешься в тесном окружении знакомых и незнакомых личин и персонажей, в коловращеньи масок, полумасок, плащей, накидок, пелерин… Круглощекие «вольто», лукавые «коты», клювоносые «доктора чумы», безликие домино, прекрасные венецианки, коломбины, арлекины, демоны и ангелы; наконец, самые распространенные: зловещие, с подбородками лопатой, с выразительным именем «ларва» – белые маски к черному костюму «баута»… и прочие традиционные персонажи карнавала вперемешку с изумительно сшитыми, действительно штучными изысканными нарядами.