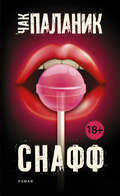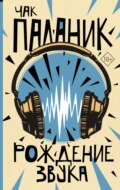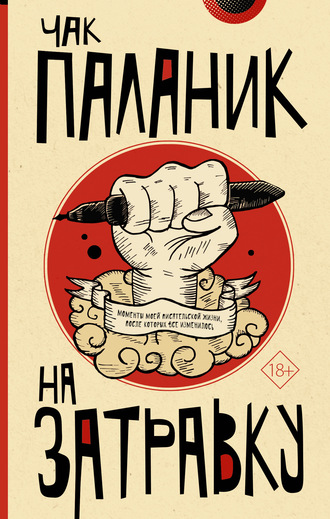
Чак Паланик
На затравку. Моменты моей писательской жизни, после которых все изменилось
Зато с помощью большого голоса можно обозначить ход времени. Он станет хорошим буфером между сценами с большим количеством действия. И позволит коротко подытожить случившееся, ввернув заодно какой-нибудь остроумный или мудрый мем о жизни.
ТЕКСТУРЫ: СЛОВА АВТОРА
Под словами автора я подразумеваю короткие вставки в диалогах, которые указывают, кому принадлежит прямая речь. Например:
– Не вынуждай меня останавливать машину, – сказала она.
Или:
– Он спросил: «А с каких пор ты у нас Росс Перро?
Слишком часто мы встречаем в книгах длинные каскады никому не принадлежащей прямой речи. Диалоги растягиваются на целые страницы, персонажи острят напропалую, ничего не делая и даже не жестикулируя. Бедный читатель растерянно отсчитывает реплики, пытаясь понять, кто что сказал.
В немом кино актеры гримасничали и махали руками, лишь изредка на экране мелькала какая-нибудь фраза. Первые звуковые фильмы грешили обратным. Примитивные микрофоны вынуждали народ кучковаться рядом с ними – и при этом почти не двигаться, чтобы не шуршать одеждой. Лишь много лет спустя киношники получили возможность комбинировать огромный вокабуляр жестов из эпохи немого кинематографа с остроумными сценическими диалогами начала звуковой эры.
В идеале диалоги должны сочетать выразительную речь с жестами и действиями.
Во-первых, обязательно используйте слова автора, чтобы не путать читателя. Ни в коем случае не давайте ему почувствовать себя идиотом! Наоборот, читатель должен думать, что он умнее главного героя. Только тогда он сможет искренне сопереживать персонажу. Скарлет О’Хара обаятельна, умна и умеет подать себя мужчинам. У нас есть все причины невзлюбить ее с первых страниц романа, но она слишком глупа – не видит, дурочка, что Ретт Батлер просто создан для нее! И вот мы уже на крючке. Мы ощутили свое превосходство и готовы по-отечески, извращенно-снисходительно научить ее уму-разуму. В каком-то смысле мы ее «удочерили».
Так вот, почаще вставляйте слова автора, чтобы читатель не заблудился в ваших длинных диалогах. А еще лучше – вообще избегайте длинных диалогов. Но об этом позже.
Во-вторых, слова автора незаменимы для создания… пустоты. Часто в прямую речь ритмически просится короткая пауза, отсутствие чего-либо, – это как мгновения тишины в музыке. Есть теория, что читатель не проговаривает все эти «сказал он», а просто перескакивает их, с размаху влетая в последующие слова персонажа. Например:
– Сестра, – сказал он, – свежую селезенку, быстро!
С помощью слов автора вы контролируете подачу прямой речи и вставляете эффектную тишину, как делал бы это актер. Иначе читатель просто проглотит строчку, не понимая, где следует расставить паузы.
В-третьих, ваши персонажи во время разговора обязательно должны совершать действия, которые либо подчеркивают, либо дискредитируют сказанное.
Например:
– Будешь кофе? – Повернувшись спиной к комнате, она разлила по чашкам кофе и подбросила Эллен таблетку цианида. – У меня какой-то новый, французской обжарки. Тебе понравится.
Или:
– Вампиры? – Деклан усмехнулся, но невольно схватился рукой за грудь в том месте, где в детстве носил крестик. – Что за чушь!
Создавайте напряжение, подчеркивая слова жестами. У ваших персонажей есть руки, ноги и лица. Используйте их. Используйте слова автора. Контролируйте подачу фраз. Поддерживайте прямую речь действиями – или же перечеркивайте ими все сказанное. А самое главное, не позволяйте читателю гадать, кто что говорит.
В заключение приведу результаты одного исследования, проведенного в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса (люди часто присылают мне подобные вырезки из «Сайентифик американ»). Авторы эксперимента хотели выяснить, как именно люди коммуницируют во время беседы. Выяснилось, что 83 % информации сообщают нам жесты, интонация и громкость речи. Словами же передается всего лишь 17 % процентов информации.
Тут мне вспоминается один случай: мой итальянский редактор, Эдуардо, однажды повел меня смотреть картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Для этого нужно заранее записаться на просмотр и через специальный шлюз войти в зал с контролируемым микроклиматом, где висит шедевр. Там можно провести ровно пятнадцать минут, после чего тебя попросят на выход. За это короткое время я успел понять, что картина в действительности представляет собой каталог жестов. Язык тела преодолевает границы языков. Честное слово, на «Тайной вечере» представлены все эмотиконы, вместе взятые!
Если коротко, то диалог – самый слабый повествовательный инструмент.
Как нас учил Том Спэнбауэр: «Язык состоит не только из слов».
Своему ученику я бы посоветовал составить список всех мелких бессловесных жестов, которыми мы пользуемся каждый день. Показываем большой палец. Соединяем большой и указательный в кольцо – «окей». Постукиваем себя по лбу в попытке что-то вспомнить. Хватаемся за сердце. Отмахиваемся рукой. Прижимаем указательный палец к губам – «ш-ш». Подманиваем кого-то. Я могу с ходу придумать по меньшей мере пятьдесят подобных сигналов. С этим списком вы уже никогда не забудете, каким огромным количеством жестов можно разбавить диалог.

Том Спэнбауэр
ТЕКСТУРЫ: ЧТО СКАЗАТЬ, КОГДА СКАЗАТЬ НЕЧЕГО?
Вы с этим сталкивались. Сидите за столом с друзьями и что-то бурно обсуждаете. После очередного взрыва хохота или вздоха наступает тишина. Тема исчерпана. Молчать как-то неловко, но никому не приходит в голову, о чем бы еще поболтать. Как вы обычно выходите из положения?
В моем детстве подобные паузы заполнялись фразами вроде «седьмая минута часа пошла». По легенде, Авраам Линкольн и Иисус Христос оба испустили дух на седьмой минуте часа, поэтому человечество всегда замолкает в этот миг, чтобы почтить их память. У евреев, говорят, есть другая поговорка для заполнения тишины: «Еврейский младенец родился». Суть в том, что подобные неловкие мгновения были всегда. И способы перебросить мостик через эту пропасть есть у многих народов и групп, они возникают из нашей общей истории.
Людям необходимо… что-то, чтобы спрятать шов между темами. Безвкусный сорбет для очистки вкусовых сосочков перед следующим блюдом. В кино есть приемы для монтажного перехода, наплыв и затемнение. В комиксах читатель просто переходит от одной панели к другой. А как добиться этого эффекта в прозе, красиво завершить одну часть истории и начать другую?
Понятное дело, можно просто пошагово описывать происходящее и вообще ни на что не прерываться. Но это так долго и скучно. Слишком долго и скучно для современного читателя. Высоколобые интеллектуалы могут сколько угодно ныть про клиповое мышление – читатель, мол, измельчал, – однако я совершенно убежден, что все ровно наоборот. Сегодня мы искушены как никогда. Мы видели все, что может предложить литература; такого количества сюжетных ходов и форм повествования не знала ни одна эпоха.
Поэтому нам нравится, когда действие в романе развивается так же быстро и интуитивно, как в кино. За счет чего можно этого добиться? Давайте посмотрим, как живые люди делают это в беседе. Они закрывают тему всевозможными «ясно»: «Останемся при своих мнениях» или «Я вас понимаю, миссис Линкольн. Как вам спектакль?».
Моя подруга Айна любит цитировать «Симпсонов», то и дело вставляя невпопад: «А у меня нарциссы во дворе». Так вы признаете, что зашли в тупик, и просите разрешения ввести новую идею.
В романе «Невидимки» для этих целей у меня есть две фразы: «Прости меня, мама» и «Прости меня, Господи». В рассказе, который позже стал «Бойцовским клубом», это повторение правил.
Наша цель – придумать персонажу узнаваемую фразочку, эдакий припев. В документалке про Энди Уорхола он рассказывает, что девизом его жизни стали слова: «И что?» В самой неприятной ситуации он мог закрыть глаза на происходящее и сказать себе: «И что?» У Скарлет О’Хара тоже была такая фраза: «Я подумаю об этом завтра». В каком-то смысле подобные коронные фразы – защитный механизм психики.
В повествовании они играют роль плинтуса, которым мы закрываем стык между полом и стенами. Кроме того, они позволяют немного абстрагироваться от происходящей драмы и двигаться дальше по сюжету, а нерешенные вопросы тем временем накапливаются, создавая напряжение.
Если все сделать правильно, такая фраза еще и напомнит читателю о каком-то событии в прошлом. Поговорка про седьмую минуту часа сплачивала нас, как христиан и американцев. Готов поспорить, что в большинстве культур есть подобные приемы, уходящие корнями в историю страны.
Короткое отступление: в детстве, когда мы всей семьей садились смотреть телевизор и вдруг начиналась реклама тампонов или женских спреев для интимной гигиены, меня очень смешила реакция родителей, бабушек, дедушек, тетушек и дядьев: они сразу начинали оживленно болтать. То есть всю «Бонанцу» мы молча пялились в экран, но стоило на экране появиться рекламе какой-нибудь очищающей дымки-спрея, как все принимались дружно трещать. Кажется, что эта история о другом, но на самом деле феномен тот же.
В универе у нас в ходу были разнообразные кодовые фразочки. Например, если во время еды кто-то пачкал соусом подбородок, другой прикасался к тому же месту на лице и говорил: «У тебя газель из парка сбежала». В долгих автомобильных поездках, если кому-то срочно надо было в туалет, человек говорил: «Тормози, уже черепаха голову высунула!»
Я пытаюсь донести простую мысль: подобные фразы укрепляют групповую идентичность. Они усиливают эффект избранного нами способа прохождения тупиков. И они легко переносят читателя от одного книжного эпизода к другому – совсем как монтажные переходы в кино.
Своему ученику я предложил бы составить список таких заполнителей. Найдите их в собственной жизни, а потом поищите в других языках и культурах.
И используйте их в своей прозе. Режьте, монтируйте текст, как кинопленку.
ТЕКСТУРЫ: ОБОЗНАЧАЕМ ХОД ВРЕМЕНИ
Самый простой способ обозначить ход времени – это, конечно, прямо сказать, сколько времени прошло. Потом описать какие-то события. Снова объявить время. Скукотища. Другой способ – это перечислять разные занятия и поступки персонажей, во всех подробностях, шаг за шагом, а потом раз – и сообщить, что уже загораются фонари на улице и мамы зовут детей ужинать. Все эти способы годятся только в том случае, если вы хотите потерять читательский интерес. Кроме того, в минималистичной литературе абстрактные единицы измерения времени («два часа», «полночь») не приветствуются по причинам, которые я изложу в главе «Устанавливаем авторитет».
Есть вариант получше: монтаж. Представьте себе главу или абзац, где автор перечисляет города на пути персонажа, снабжая каждый коротким описанием происходящих там событий. Город – событие, город – событие. Примерно так сделано в финале «Правил секса» Брета Истона Эллиса, где читатель за пару абзацев объезжает всю Европу. Или вспомните маленький рисованный самолетик в старых фильмах, который моментально переносит зрителя в Стамбул.
В «Рабах Нью-Йорка» Тамы Яновиц нарезка представляет собой недельное меню в сумасшедшем доме. В понедельник нас кормят тем-то. Во вторник этим. В среду еще чем-то. В фильме Боба Фосса «Весь этот джаз» такую же функцию выполняет повторяющаяся короткая сцена: главный герой чистит зубы, принимает бензедрин и сообщает зеркалу в ванной: «Шоу начинается!»
Неважно, кого или что вы перечисляете – бойфрендов, города, еду, – старайтесь делать описания как можно более емкими и сжатыми. Когда нарезка закончится и начнется новая сцена, у читателя будет ощущение, что прошло много времени.
Другой способ обозначить его ход – это перебивки. Закончите одну сцену и вставьте флешбэк, перескочив из настоящего в прошлое. Когда будете прыгать обратно в настоящее, вовсе не обязательно возвращаться ровно в то же самое время, из которого вы ушли. Такие прыжки позволяют смухлевать и перенести действие вперед.
Еще перебивками можно перемещаться от персонажа к персонажу. Вспомним, к примеру, книгу Джона Берендта «Полночь в саду добра и зла» («Midnight in the Garden of Good and Evil») или «Городские истории» Армистеда Мопина («Tales of the City»). Стоит на пути одного персонажа возникнуть какому-то препятствию, как «камера» сразу переключается на другого. Это может бесить, если читатель эмоционально привязан только к одному персонажу, зато каждый скачок позволяет нам перенестись во времени.
Или же делайте перебивки с использованием большого и маленького голоса. Здесь уместно вспомнить роман Стейнбека «Гроздья гнева». Вот мы путешествуем по стране с семьей Джоудов: их странствия описываются маленьким голосом. А потом включается большой, рассказывающий о положении дел в стране, засухе, непрерывном потоке мигрантов и враждебно настроенных калифорнийских шерифах и землевладельцах. И вот мы уже снова в пути вместе с Джоудами. Затем большой голос повествует о погоде и наводнениях. А в следующей главе мы опять возвращаемся к странствующей семье.
Своему ученику, помекав и поэкав для приличия, я сказал бы еще вот что: не стесняйтесь использовать отбивку для обозначения временных переходов. После окончания сцены или эпизода можно оставить в тексте большой разрыв. Говорят, что первые низкопробные романы печатались вообще без деления на главы, там была только отбивка. Издатели старались таким образом избавиться от пустых или полупустых страниц – то есть сэкономить несколько листов газетной бумаги и тем самым увеличить чистую прибыль.
В романе «До самых кончиков» я нарочно использовал отбивку вместо деления на главы: хотелось, чтобы внешне книга напоминала первые бульварные порнографические романы в мягких переплетах. В «1984» Оруэлла упоминается дешевая порнография для пролетариата, которую сочиняет специальная машина. Эти книжки и непристойный, абсурдный жанр слеш-литературы вдохновили меня на то, чтобы попытаться скопировать их визуальное оформление и использовать отбивку для временных переходов.
Писательница Моника Дрейк рассказывает, как посещала писательские курсы Джой Уильямс при Аризонском университете. Уильямс взглянула на чью-то свежую работу и вздохнула: «Ах эти отбивки… ложный друг писателя».
Вероятно, дело в том, что отбивка сама по себе – если она используется не для смены времени, персонажа или голоса – не создает напряжения. Например, если поделить день Роберта на события простой отбивкой, получится монотонная тягомотина. А вот если той же отбивкой мы отметим переходы между разными точками зрения – повествованием от лица Роберта, Синтии и их предка из Венеции эпохи Возрождения, – у читателя появится возможность немного отдохнуть от каждого персонажа и элемента, а значит, оценить их по достоинству и сильнее переживать.
В общем, своему ученику я разрешил бы использовать отбивку для обозначения хода времени. Но не спешите радоваться. Эти страховочные колесики рано или поздно придется снять.
ТЕКСТУРЫ: СПИСКИ
Для усложнения текстуры текста смело вставляйте в него разнообразные списки. Смотрите, как здорово выглядит список гостей в 4-й главе «Великого Гэтсби». Брет Истон Эллис мне рассказывал, что именно Фицджеральд вдохновил его на создание подобного списка для «Гламорамы». Также обратите внимание на списки Тима О’Брайена в «Что они несли с собой» («The Things They Carried»). Мой личный фаворит – 18-я глава «Дни саранчи» Натанаэла Уэста. Главный герой ищет девушку на съемочных площадках голливудской киностудии 1920-х годов, встречая на своем пути копии статуй и прочих древностей из папье-маше; залы забиты памятниками всевозможных культур и эпох, современный мир изображен бок о бок с динозаврами. Пожалуй, это самая сюрреалистичная сцена в истории литературы.
Своему ученику я посоветовал бы прочитать эту главу, а затем ознакомиться с эпизодом из «Последнего магната» Фицджеральда, где землетрясение вызывает потоп на похожей голливудской студии, и мимо главного героя проплывает парад бутафорских идолов и древностей. Обратите внимание: у Уэста мы сами движемся среди перечисляемых объектов, у Фицджеральда же читатель стоит на месте, а объекты плывут мимо него.
Списки визуально разбивают страницу. Заставляют нас внимательно читать каждое слово. Я получил огромное удовольствие, перечисляя цвета икеевской мебели в «Бойцовском клубе», и мечтал написать целую книгу списков, составляющих единый мифический «расстрельный список» для «Ссудного дня».
Итак, списки. Используйте их.
ТЕКСТУРЫ: СТРОИМ СОЦИАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ ПРИ ПОМОЩИ ПОВТОРОВ
Помните, как в детстве нам было достаточно бросить пару досок в грязь, чтобы создать новую реальность? «Давай как будто грязь – это лава. Ходить можно только по доскам». Дети моментально рисуют новый мир и создают правила жизни в нем. На дереве – безопасно. Тротуар – вражеская территория.
Со своим учеником я непременно поделился бы секретом, который мне открыл Бэрри Ханна: «Читатели от такого прутся».
Возьмем для примера несколько популярных романов, где устанавливаются правила поведения в той или иной группе. Это книги вроде «Лоскутного одеяла» («How to Make an American Quilt»), «Божественных тайн сестричек Я-Я» («The Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood») и «Клуба радости и удачи» («The Joy Luck Club»), посвященные историям сообществ, участники которых разработали определенные правила и живут по ним. Сюда же отнесем «Союз “Волшебные штаны”» Энн Брешерс, где молодые девушки встречаются и делятся друг с другом своими историями. Книг про новые модели социального взаимодействия мужчин куда меньше. На ум приходит разве что «Общество мертвых поэтов» и, конечно, «Бойцовский клуб».
Позволю себе предположить, что люди понятия не имеют, как находить общий язык с другими людьми. Нам нужен строгий набор правил, условностей и ролей. Когда такие правила установлены, можно спокойно собираться и сравнивать свои жизненные пути. Учиться друг у друга.
Том Спэнбауэр всегда говорил: «Писатели пишут, потому что их не зовут на вечеринки». Так знайте: читатель тоже одинок. Ему часто бывает не по себе в обществе, и он обязательно оценит историю, подсказывающую ему способ влиться в ряды себе подобных. Читатель лежит один в кровати или ждет рейса в аэропорту, так давайте предложим ему сцену грандиозной вечеринки в духе тех, что закатывал Джей Гэтсби.

Бэри Ханна
Вот почему я часто описываю в своих книгах модели социального взаимодействия людей (общество автосалочников в «Биографии Бастера Кейси», съемочная площадка в «Снаффе»). Когда устанавливаешь правила и начинаешь их повторять, они образуют своеобразные рамки, в которых персонажи чувствуют себя спокойно и уверенно. Они знают, как себя вести, а потому расслабляются и готовы показать свое истинное «я».
Лишь много лет спустя до меня дошло, почему я так часто описывал подобные модели в своих книгах. Чтобы это понять, пришлось ознакомиться с работами антрополога культуры Виктора Тэрнера. Он утверждает, что изначально «лиминальные» мероприятия носят характер социального эксперимента. На короткое время возникает сообщество, в котором все участники равны, – это «коммунитас». Если эксперимент проходит успешно, то есть все участники получают возможность испытывать удовольствие, самовыражаться, снимать стресс и так далее, такое сообщество со временем институционализируется. Самый удачный пример из недавних – фестиваль «Burning Man» («горящий человек») в невадской пустыне Блэк-Рок. Или «Новогоднее безумие» – мероприятие, на которое ежегодно собираются тысячи людей в костюмах Санта-Клауса. Оба задумывались как спонтанные неформальные хеппенинги, но с годами обрели статус народной традиции.
Сложно представить более одинокого человека, чем писатель. Литературоведы утверждают, что прототипами психов из «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи стали люди, с которыми он посещал курсы писательского мастерства в Стэнфорде. Вероятно, персонажи романа «Возлюбленная» Тони Моррисон тоже позаимствованы на подобных курсах, и пассажиров автобуса из романа «Мистер Спейсмен» Роберта Олена Батлера («Mister Spaceman») автор списал со своих однокашников.
Лингвист-антрополог Ширли Брайс Хит утверждает, что книга переходит в разряд классики только в том случае, если вокруг нее может сформироваться сообщество единомышленников. Поэтому учитывайте, что чтение – одинокое занятие. Не стесняйтесь придумывать ритуалы. Изобретайте правила и сочиняйте молитвы. Давайте людям роли и слова, возможность объединяться и исповедоваться, рассказывать свои истории и находить общий язык.
Для пущего ритуального эффекта можно создать что-то вроде главы-заготовки и использовать ее снова и снова, меняя лишь незначительные детали и всякий раз выдавая ее за свежее откровение. Читатель, вероятно, не поймет, что вы сделали, но подсознательно заметит повторы. Разбросайте три такие заготовки по роману, выдерживая между ними равные промежутки.
Своему ученику – в мире, где сообщества, братства и религии стремительно отходят в прошлое, – я посоветовал бы создавать новые, используя для этого ритуалы и повторы. Дайте читателю модель, которую можно скопировать, и персонажей, которым можно подражать.
ТЕКСТУРЫ: ПАРАФРАЗ И ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Обратите внимание: когда вы помещаете слова персонажа в кавычки, он становится объемнее и правдоподобнее. И наоборот, перефразируя говорящего, вы дистанцируете от него читателя и умаляете его слова.
Вот, например, парафраз:
Я сказал им, чтобы поставили коробку в угол.
А вот прямая речь:
Я сказал: «Поставьте коробку в угол».
В «Бойцовском клубе» я решил использовать прямую речь для всех персонажей, кроме рассказчика. Благодаря этому даже Тайлер кажется настоящим. Если же вы хотите умалить значение сказанного, пользуйтесь парафразом. Если хотите ослабить или дискредитировать персонажа – пересказывайте его речь своими словами.
И наоборот: если нужно выставить персонажа напоказ, заключайте его речь в кавычки. Не забывайте про слова автора. Подчеркивайте сказанное жестами и действиями.
Эффект от использования этого приема едва уловим, однако своего ученика я заверил бы, что он работает.
Открытка из тура
Ким Рикеттс рассказала мне любопытную историю про Стивена Кинга. После одного мероприятия в книжном магазине при Вашингтонском университете мы с ней отправились в Беллтаун выпить пива. Ким сообщила, что расширяет дело и скоро будет организовывать лекции и встречи со спикерами для таких корпораций, как «Старбакс» и «Майкрософт». Мне пора было возвращаться в отель, но Ким оказалась прекрасным собеседником и рассказчиком. Еще до истории про Кинга она поведала мне про Эла Франкена, по вине которого Вашингтонский университет теперь требует, чтобы люди, пришедшие на творческую встречу с автором, обязательно купили его книгу. Эл Франкен собрал полный «Кейн-холл» на восемьсот мест, и публика дружно хохотала над всем, что он говорил. Вход на лекцию был бесплатный. К концу вечера Франкен продал аж восемь (!) экземпляров своей книги.
После этого университет решил, что отныне зрители обязаны покупать книгу выступающего автора.
Чтобы провести встречу со Стивеном Кингом, Ким пришлось выполнить его стандартные условия: нанять телохранителей и подобрать площадку, которая вместит пять тысяч человек. Один зритель может принести на подпись не более трех книг. Автограф-сессия продлится восемь часов, и все это время кто-то должен стоять за спиной писателя и постоянно прикладывать лед к его плечу.
День встречи настал, и Ким все восемь часов держала лед у вышеупомянутого плеча. Площадка – «Таун-холл» – представляла собой бывшую церковь на вершине Кэпитол-хилла, откуда открывался сногсшибательный панорамный вид на Сиэтл. В зале был аншлаг. Пять тысяч преимущественно молодых людей готовы были хоть весь день дожидаться своих трех автографов.
Кинг сел и начал подписывать книги. Ким стояла и прикладывала лед к его окаянному плечу. Примерно на сотой книге (из пятнадцати тысяч) Кинг обернулся к ней и попросил: «Можно попросить у вас бинт?»
Он показал ей свои пальцы: за годы подписывания книг кожа вдоль большого и указательного превратилась в толстую сухую мозоль. Такие мозоли – аналог боксерского «вареника», изувеченного уха. Твердые, как шкура стегозавра, они имеют свойство трескаться.
– Я заляпал товар кровью, – посетовал Кинг и показал свежий кровавый отпечаток на титульной странице книжки.
Впрочем, юный хозяин книги ничуть не огорчился, что его собственность теперь испачкана кровью великого короля ужасов.
Ким хотела пойти за пластырями, но было поздно. Следующий человек в очереди услышал эту беседу и закричал:
– Так нечестно! Раз мистер Кинг оставил кровавый след на его книжках, пусть и на моих оставит!
Эти слова услышали все собравшиеся. Возмущенные вопли наполнили гулкий зал: пять тысяч любителей ужасов хотели крови. Своды церкви огласило разъяренное эхо, сквозь которое Ким едва расслышала просьбу Кинга:
– Выручите?
Все еще прижимая лед к его плечу, она ответила:
– Это ведь ваши читатели. Как скажете, так я и сделаю.
Кинг стал подписывать книги дальше. Истекать кровью и подписывать. Ким осталась рядом; когда народ увидел, что бинт так и не принесли, возмущение толпы понемногу сошло на нет. Пять тысяч человек. По три книги на брата. Итого пятнадцать тысяч книг на подпись. Ким сказала, что это заняло восемь часов, но Кинг умудрился подписать ручкой и кровью все до единой. К концу мероприятия он так ослаб, что телохранителям пришлось под руки вести его к машине.