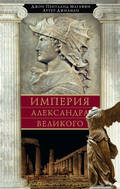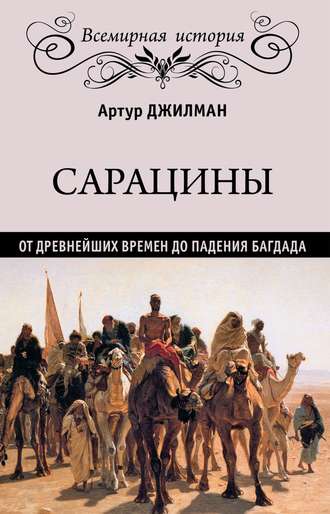
Артур Джилман
Сарацины. От древнейших времен до падения Багдада
III. Эпоха невежества
Когда Адам пал и был изгнан из рая, о чем сообщают нам восточные сказания, с неба упал камень чистого белого цвета, с тех пор веками хранимый со всем религиозным рвением и благоговением, как нечто священное и безупречное. Камни действительно иногда падают с неба, но в те давние времена люди еще ничего не знали об аэролитах и потому придавали им сверхъестественное значение. Судьба камня прослеживается задолго до Рождества Христова, и Диодор Сицилийский, римский писатель золотой поры, выбравший своей темой точное описание подробностей из жизни всех народов, упоминает камень как уже существующий – он считался древнейшей реликвией и был почитаем всеми арабами.
Мы помним, что, когда Иакову приснился его чудесный сон, он установил в память об этом событии камень, на который он излил елей и назвал Beth-El, то есть «Дом Бога». Арабы тоже называют место, где хранится их бесценная реликвия, Домом Аллаха. Однако, в отличие от реликвии Иакова, они поклоняются чему-то бесформенному. В древности поклонение арабов подобным камням не было чем-то необычным, но лишь этот стал самым известным, оставшись на века в памяти народа. Правда, он не сохранил свой белый цвет и приобрел красновато-коричневый оттенок, либо оттого, что над ним так много рыдали, оплакивая грехи всего мира, либо оттого, что к нему сотни лет прикасались, покрывая поцелуями. Камень поистерся и раскололся, его скрепляют серебряные скобы, и сейчас его уже стали называть черным, настолько он запылился.
Священный камень помещен в стене здания, известного под названием Кааба («куб»), вокруг которого сооружена мечеть, вобравшая в себя, помимо Каабы, источник, названный благодаря журчащему звуку льющейся воды Земзем. Рассказывают, что когда Агарь была послана в пустыню пророком Авраамом, она положила маленького Исмаила на песок (хотя мы считаем, что он к тому времени уже был взрослым юношей, которому почти исполнилось шестнадцать) и что, когда он раскинул ручонки, ему открылся источник, давший отдохновение и влагу и ему, и его матери. Существует мнение, что Сет, сын Адама, построил здесь Каабу, но ее смыло затем потопом. Когда Исмаил, возмужав, женился на царевне этой страны, он возложил на себя священный долг восстановления священной постройки. В этом ему помогал его отец, Авраам, которого направил архангел Джабраил, посланный с этой целью с небес. Ангел отыскал священный камень под слоем оставшейся после потопа тины.
Период, с которым в сознании арабов соотносятся эти знаменательные события, назван ими эпохой невежества, и, как бы то ни было, мы считаем необходимым упомянуть о них в связи с нашим повествованием.
В Библии сообщается, что в дни Исаака и Иакова в Палестине бывали торговцы, которые отправлялись в Аравию или возвращались оттуда, чтобы обменивать товары обеих земель. Прослеживая историю с давнейших времен, мы обнаруживаем, что в царствование Соломона «цари Аравии» и торговцы заключали сделки с Иудеей и что пророк Иезекииль в своих ламентациях об утопающем в роскоши городе Тире упоминает торговых гостей из Дедана, Адена и Сабы, так как те привозили в этот крупный средиземноморский порт редкостные пряности, драгоценные камни, сверкавшие клинки и нарядные сундуки, украшенные золотом, дорогие синие покрывала и вышивку[17].
Все это происходило за сто лет до Рождества Христова, а у римских авторов мы узнаем, что доходная торговля продолжалась до тех пор, пока торговцы не начали перевозить свои грузы по волнам Красного моря. И тогда морские корабли сменили корабли пустыни. Большого числа верблюдов для торговых караванов уже не требовалось, отпала необходимость и в погонщиках. Разбросанные вдоль всего побережья стоянки, где отдыхали торговцы, были заброшены, обслуживавшие их люди вынуждены были искать себе другую работу. И тогда возросло количество «бедавинов», то есть «странников пустыни».
В годы «неведения» мир мало знал об Аравийском полуострове. При Августе, за четверть века до Рождества Христова, римская армия под предводительством Элия Галла, префекта Египта, по приказу императора переправилась через Красное море с намерением заключить договоры с местным населением или покорить его – на случай, если экспансии Рима будет оказано противодействие. В течение шести месяцев войска блуждали по крайнему югу полуострова, достигнув самой Сабы, куда ее привел проводник-изменник; жаркое солнце палило их, скверная вода способствовала болезням. Силы таяли. Элий не смог покорить сарацин и вынужден был бесславно бежать из неприветливого края. Его поспешное отступление заняло всего шестьдесят дней. Поэт Гораций упоминает сказочное богатство арабов, пленившее императора, который затеял столь незадачливую экспедицию, и из его произведений мы теперь знаем, с какой алчностью ее участники рвались в поход на Аравию. И хотя он тут же потерпел провал, его значение для пополнения знаний человечества о стране сарацин неоценимо, ибо близкий друг Галла Страбон составил шестнадцать книг с географическим описанием путешествия, как только добрался целым и невредимым до Египта.
Пятьсот лет спустя (в VI в. н. э.), когда в той же части страны появилось христианство, потомки римлян вторглись сюда вновь. С незапамятных времен династия Химиаритов правила Йеменом и Хадрамавтом, расположенным в восточной части региона; но к этому времени трон узурпировал иудейский правитель, который пытался жестокими мерами принудить христиан перейти в его веру. Один беженец сумел отыскать дорогу через Аравию, Сирию и Малую Азию ко двору Юстиниана в Константинополе, где, с полуобгоревшим Евангелием в руках, стал требовать возмездия. Принц Абиссинии, взяв эту миссию на себя, переправился через Красное море. Он захватил верховную власть и стал править, но вскоре был свергнут, а Йемен стал данником Персии.
Местоположение Мекки, делающее Каабу центром, вокруг которого объединяются правоверные, очень удобно, так как она расположена на полпути между заливом Акаба и Сабой. До побережья Красного моря здесь пятьдесят миль, и около тридцати – до гранитных вершин горы Джебель-Кора. На восток от нее лежит приветливая страна, утопающая в зелени прекрасных тенистых деревьев, где изобилуют яблоневые сады, инжир, гранаты, персики. Однако местность близ Мекки разительно отличается от этого сада. Здесь суровые и неприступные гряды перемежаются с бесплодными долинами, где лишь песок и камни и где непосильный труд земледельца вознаграждается весьма сомнительными результатами.
Труднодоступная долина, где стоит Мекка, имеет протяженность около двух миль, причем Кааба и другие важные части города расположены амфитеатром шириной в полмили, в окружении отвесных скал, хмуро взирающих на округу с высоты 60, 100, а то и 150 метров. Таково место, где, по преданию, Агарь и Исмаил нашли себе приют. Оно, несомненно, годится в качестве колыбели для дикого, стойкого, предприимчивого и подвижного народа, которому, говоря языком Писания, на роду написано быть против всех и вся, народа, которому приходилось быть сильным и суждено было противостоять соседям, веками держать их в страхе.
В какие-то времена, вероятно, задолго до того как исторические летописи запечатлели что-либо из подобных событий, поток паломников устремился в скудную долину, а весь западно-центральный район Аравии стал называться Хиджаз, «земля паломников». Большинство торговых путей далеко отклонились от побережья Красного моря, однако фетишизм все еще влек тысячи беззаветных приверженцев в эту долину. Толпы их в основном собирались близ горы Милосердия (Арафат), представляющей собой небольшое возвышение, чуть больше 60 метров над равниной – на ее священной вершине, как гласит предание, Адам некогда возвел молитвенный дом, где архангел Джабраил учил его молиться.
Толпы паломников приносили этому краю большие деньги. Те, кто похитрей, смекнули, что тот, кто воспользуется всем этим с умом, завладеет и властью, и богатством. Так называемые потомки Исмаила считали, что находятся в привилегированном положении, и какое-то время действительно держали бразды правления в своих руках. Но завистливые соседи лишили их этого права и захватили власть, удерживая ее до тех пор, пока у некого Кусая не набралось честолюбия и силы настолько, чтобы заявить о своих правах и сосредоточить наконец власть над городом в своих руках. Родом он был из племени Фихр, по прозванию Курайш (что значит «торговец»), и его родословная была тщательно изучена, и знали о нем немного – лишь то, что он был влиятелен. Кусай привел с собой в долину множество родичей примерно в 440 г. до н. э., построил дворец и дом для оформления важных торговых сделок, следил за прибытием и отправкой караванов; хранил ключи от Каабы. Он монополизировал поставку пилигримам хлеба, отпускал освежающую воду из колодца Земзем – одним словом, он создал город Мекку и твердой рукой правил им[18].
Кусай захватил к тому же всю гражданскую, политическую и религиозную власть, предоставляя паломникам условия для требуемых религиозных обрядов и ритуалов. Набожные и суеверные арабы без колебаний подчинялись его указаниям. Прибывая к месту паломничества, они облачались в специальную одежду, ихрам, почтительно приближались к Каабе и целовали священный черный камень; они совершали таваф, семикратно обходя вокруг здания, три раза – стремительно и четыре раза – легкой походкой. Они семь раз поднимались на холмы Сафа и Марва и спускались с них. Ранним утром они стремительно взбегали на гору Арафат и торопливо мчались обратно. Они бросали камни в три столба, исполняя этот мистический ритуал в память об Аврааме или, возможно, в память о встрече Авраама с Иблисом, когда пророк подобным же образом прогнал злого духа прочь. Они приносили в жертву животных и, сняв с себя платье, отдыхали три дня, потом повторяли вновь круги вокруг Каабы, после чего могли уже свободно обратить взоры к своим жилищам, дабы вернуться к повседневным занятиям, получив навсегда почетное звание паломника, совершившего хадж. Подношения, сделанные правоверными, предназначались в память о жертве Исмаила, которую намеревался принести Авраам, так как своим предком они почитают его вместо Исаака. Каковы были обязанности пилигримов раньше, мы сказать не можем, так же как мы не знаем имен божеств, которым поклонялись прежде в Каабе, хотя в старину в пантеоне их было больше, чем дней в году.
Наследникам властителя города не пришлось в мире и спокойствии наслаждаться привилегиями старейшины Мекки. История сохранила свидетельства о многочисленных распрях между ними. Одно время вперед выдвинулся некто Абд-Менаф, достаточно сильный, чтобы и своему сыну Хасиму передать почетное право принимать паломников. Омейя, племянник Хасима, оказался его непримиримым противником, в результате чего между потомками того и другого последовала настоящая война, продолжительная и кровавая. Каким-то странным образом священный колодец оказался запертым и заброшенным, пока Абд аль-Мутталиб, сын Хасима, чудодейственным образом не открыл его вновь, что немедленно возвысило и прославило его в глазах современников. Почетом и уважением он пользовался до конца своих дней.
В минуту слабости Абд аль-Мутталиб принял обет, что, случись ему быть благословенным десятью сыновьями, один из них непременно будет принесен в жертву Аллаху. Спустя годы нужное количество отпрысков появилось на свет, и опечаленный отец собрал их всех в Каабе и бросил жребий, чтобы узнать, кого следовало принести в жертву. Жребий пал на Абдуллу, очаровательного позднего ребенка, и жертвенный нож был торжественно подан. И тогда сестры Абдуллы предложили бросить жребий между юным братом и десятью верблюдами – ибо такова была установленная плата за кровь человека. Абд аль-Мутталиб вторично бросил жребий – и о горе! – жребий снова пал на возлюбленного сына. Снова было решено бросить жребий, увеличив число животных, но жребий вновь пал на ребенка. Снова и снова повторялось испытание, пока не был предложен сотый верблюд, и тогда, к всеобщей радости, жребий пал на верблюдов! Абдуллу отпустили, а жители Мекки устроили пир на тушах жертвенных животных[19].
До Кусая в Аравии не было настоящего правителя, и каждый творил то, что сам считал правильным, лишь отчасти опираясь на мнение своего племени; последующее правление искало опору в насилии и само было готово к тому, что его в любую минуту могут свергнуть. Таково было положение дел к концу «эпохи невежества», к тому моменту, когда внешнему миру суждено было вмешаться в дела полуострова – и узреть чудеса Востока!
IV. Год Слона
В годы, когда на свете жил Абд аль-Мутталиб, в Йемене правил могущественный абиссинский наместник по имени Абраха. Его столица находилась в Сане, где сосредоточена была торговля с Персией и внутри самой страны. Абраха установил правление, слава о котором не поблекла и по сей день, ибо известно, что в Сане даже сейчас имеется множество привлекательных зданий, садов с фонтанами и дворцов и что она все еще остается центром оживленной торговли. Действуя от лица христианского принца, Абраха воздвиг величественный храм, который, как он надеялся, отвлечет паломников от Каабы, но его ждало разочарование, а христианского смирения в нем оказалось недостаточно, чтобы сдержать бурное негодование при виде своего поражения. И он вознамерился завершить при помощи силы то, чего не удалось осуществить путем убеждения. Обуреваемый гневом, собрал он войско, дабы напасть на Мекку, продефилировал во главе его мимо города с развернутыми знаменами и с легкостью разметал противника, вышедшего ему навстречу во главе неорганизованных племен, первыми попавшихся под руку.
Но чем сильнее выплескивалась его кипящая ярость наружу, тем все больше день ото дня возрастали тяготы его похода. Говаривали, что Сана лежит в пятнадцати днях пути от Аль-Мохи и Адена, и, если это так, то до Мекки от нее добираться не меньше сорока дней[20]. На расстоянии трех дней пути от Священного города находится Таиф (Эт-Таиф), небольшой город, который в наши дни считается почти столь же священным, как и «Мать городов». В те времена по каким-то причинам жители Таифа не испытывали большой симпатии к мекканцам, о чем и было доложено Абрахе. Мало того – нашелся в Таифе проводник, готовый провести войско по пустыне до самого города, разорить который оно намеревалось, – не слишком-то добрососедский поступок. Со времени того незабываемого похода прошли века, однако о вероломстве предателя-проводника помнят до сих пор. С той поры всякий прохожий швырял камни на его могилу, так как он по дороге внезапно скончался и прожил не слишком долго после того, как предложил завершить поход в трое суток. Тем не менее человека, охваченного гневом, остановить непросто, и Абраха, не переставая неистовствовать, посылал все новые отряды, которым было приказано брать по дороге любой попадавшийся скот, заодно распространяя среди населения слухи о доблести наместника. Велено было рассказывать о его могущественной армии, о сокровищах города Саны, но более всего твердили, как нам доподлинно известно, о его громадном слоне, повсюду сопровождавшем господина вместе с его свитой. Слоны были еще незнакомы жителям Аравии, и потому он им внушал ужас. Двести верблюдов Абд аль-Мутталиба были сметены во время похода авангардом Абрахи.
Прежде чем достичь Мекки, наместник направил к городу гонца, который передал на цветистом языке Востока: «Абраха, наместник абиссинского правителя, не хочет причинить вам вреда, о жители Священного города. Он желает лишь разрушить Каабу, которая в его глазах – неправедный храм, вместилище идолов, алтарь ложной религии. Свершив же это, он возвратится к себе, не пролив ни капли вашей крови». Как и следовало ожидать, сей призыв не возымел нужного действия, ибо среди жителей Мекки не было предмета более почитаемого и бережно хранимого, нежели Кааба. За нее они готовы были отдать жизнь и все, что у них было самого дорогого, и хотя перед этим они подумали, что никоим образом им не устоять перед столь могущественным врагом, теперь они решили собрать все силы без остатка и дать отпор неприятелю. Свое решение они передали Абрахе через послов, и сам Абд аль-Мутталиб явился в лагерь осаждавших, чтобы придать посланию большую значимость. Абраха со своей стороны приложил все усилия, чтобы вынудить стражей святыни отречься от их веры. Он возвратил Абд аль-Мутталибу отнятых у того верблюдов, он обещал ему несметные богатства, но все было впустую, и переговоры ни к чему не привели. Абрахе торжественно дали понять, что Кааба находится под покровительством Аллаха, после чего посланцы Мекки с отчаянием в сердце возвратились в родной город, предоставив супостату действовать на собственное усмотрение.
«Владелец Слона», как его еще называли, считался непобедимым, и жители Мекки, после некоторого размышления, совсем потеряли надежду и в великой скорби решили искать спасения на окрестных холмах. Когда такое решение было принято, Абд аль-Мутталиб взялся за кольцо на двери священного здания и стал громко молиться: «Защити, о Аллах, свой дом, ибо слуги твои слишком слабы, чтобы противостоять несметной силе врагов; не позволь кресту восторжествовать над Каабой!» Сказав так, он с остальными жителями удалился в горы и стал покорно ждать, что должно случиться.
К изумлению всех жителей армия наступавших начала сворачивать лагерь! Громадный слон отказался идти на город, и к тому же осаждавших внезапно поразил невиданный и невидимый враг! В их рядах стала распространяться зараза, и в страхе за свою жизнь они бросились врассыпную, подальше от этого места. Вскоре их бросили проводники, и многие потом погибли, заплутав в непроходимых дебрях. Других унес с собой яростный поток, казалось, посланный волей разгневанного Аллаха. Да и сам Абраха, пораженный заразным недугом, вернулся в Сану лишь для того, чтобы испустить там свой дух.
Жители Мекки возблагодарили Аллаха, ниспославшего им спасение, и до сих пор стены мусульманских мечетей дрожат от звука голосов муэдзинов, которые возглашают: «Слава Аллаху, Справедливому и Милосердному! Видел ли ты, что сотворил Аллах с теми, кто пришел со слоном? Разве он не разрушил их коварный замысел и не послал птиц, что побросали камни в обжигаемую глину, сделав их наподобие истыканных стеблями соломы?»[21]
Вот уже двенадцать столетий неизменно повторяются эти слова, и все правоверные вспоминают о том дне, когда Аллах, по просьбе Абд аль-Мутталиба, вмешался, чтобы спасти святыню Каабы. Этот эпизод оказал огромное влияние на крепость власти всех потомков абд-Манфа, правда, случившееся углубило раздор между Омейядами и Хашимитами.
Следующее событие, выпавшее на Год Слона, заставляет вспоминать о нем чаще и чаще, так как без него история Сарацин не будет полной. За год до того юный и красивый Абдалла, имя которого переводится как «Слуга Аллаха», взял в жены очаровательную девушку по имени Амина, родственницу брата всем известного Кусая. Так прекрасен был сын Абд аль-Мутталиба, что старики, рассказывавшие эту историю, утверждают, будто после его женитьбы на Амине двести прекраснейших дев Мекки умерли от тоски, горюя, что не их он выбрал в жены! Справедливости ради следовало бы добавить, что он был столь же добр, сколь и хорош собой. Вскоре после женитьбы ему пришлось уехать по делам в Южную Сирию, знаменитый город филистимлян Газу, откуда на своих плечах Самсон вынес ворота и куда вельможа царицы эфиопской Кандакии направился после визита в Иерусалим, о чем рассказывается в Книге Деяний. На обратном пути, в Медине (тогдашний Ясриб), Абдаллу поразила болезнь, и прежде чем прекрасная Амина или кто-либо из близких успели навестить его, он умер. Своей молодой жене он оставил скудные средства – нескольких негодных верблюдов да стадо коз.
Предание, которое превозносит любое событие, упоминаемое в этой истории, гласит, что через несколько недель, к концу лета, Амина произвела на свет мальчика, который, как бы невероятно это ни звучало, сразу же воскликнул: «Аллах велик! Нет бога, кроме Аллаха, а я его пророк!»
Рассказывают, что и в самых отдаленных уголках люди испытали на себе в тот самый августовский день[22] нечто особенное: неистовой силы землетрясение разрушило до основания дворец Хосровов в Персии, так что его стройные башни рухнули на землю; какой-то вельможа видел во сне, как дикого верблюда одолел арабский всадник, а священный огонь, что под присмотром мудрецов неустанно пылал на алтаре Зороастра, вырвался на волю и что Иблис был сброшен в пучину моря, а зловредные джинны были повержены пречистыми ангелами.
Дед мальчика принес его к Каабе и, высоко подняв его, торжественно поблагодарил Аллаха за его рождение и назвал младенца Мухаммедом, что означает «Достохвальный». Имя это, как нас уверяют, никогда до этого не давалось младенцам, а что касается этого ребенка, то с его рождением связывались очень большие надежды. Но по этому поводу существуют и большие сомнения, так как изначально ребенка звали Котан, и только позже он получил другое имя, по причинам, о которых будет рассказано нами в дальнейшем[23].
Вне всякого сомнения, чудеса были добавлены сказителями более поздних эпох, так что не обязательно им верить, как показала судьба Мухаммеда. Хотя совсем нет причин сомневаться, однако, когда ребенку исполнилось семь дней от роду, его досточтимый дед устроил пир в честь мужей могущественного племени курайшитов, на котором представил новорожденного как того, кто прославит свой род. Вот почему имя Мухаммед стало в дальнейшем восприниматься как пророческое.